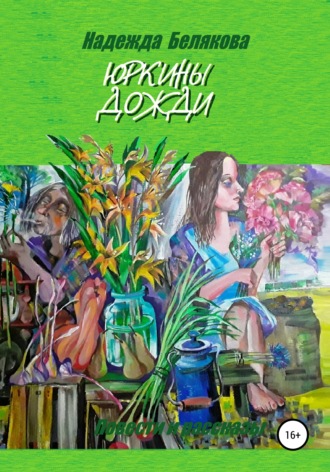
Надежда Александровна Белякова
Юркины дожди
– Да что ты сегодня? Куда ж я от тебя? Я добро помню! Не бойся – не брошу, если мальчонку оставишь в покое! Что-то ты совсем разнюнился. Наверно, устал? Да, такое дело закрутил! Шоу-бизнес! Смотри, одолел!
И Стилет, неожиданно по-доброму и как-то по-сыновьи обнял его за плечи. И тихо, но отчетливо произнес:
– Мальчишку не трогай! И все хорошо будет! Горшки за тобой выносить буду, кашей с ложечки кормить, памперсы честно менять! Но только мальчишку – не тронь!
Стилет и босс со спины выглядели смешно и глупо, потому что в лучах рассвета их фигуры отбрасывали длинные крупные тени, отчего они казались детьми, а их тени – грозными фигурами. Но они шли по переулку, чтобы вернуться во дворик, дальше «рулить праздником».
Марат, как обычно в свое время, выглянул во двор и был ошарашен теми превращениями, что преобразили его дворик и песочницу.
Стилет организовал и из его появления представление. Босс предложил гостям делать ставки, на «попадет мальчонка или не попадет». Но Марат попадал, и деньги, поставленные на кон, переходили в полосатые торбы, которые Стилет, нарочито по-кулоновски смешно обыгрывая восточную почтительность, укладывал и укладывал. И проворно расставлял заранее приготовленные мишени на стенде, но, впрочем, традиционные пустые бутылки тоже пошли в дело и пользовались большим спросом у гостей, уже начинающих уставать от праздника.
Словом, к концу действа Стилет был увешан торбами с деньгами, вырученными за удачные попадания Марата во все, что могло оказаться мишенью на таком бурном празднике. Да и число их к этому времени резко сократилось. Но тут выбежала Маргарита, не углядевшая за сыном и заснувшая на рассвете. И резко увела Марата домой. В глаза бросилось и то, что это был именно тот молодой человек, что заходил к ней и накануне купил у нее три тюбетейки, а потом скупил и все остальные. Да и тюбетейка на его голове тоже была ее.
Вскоре гости стали разъезжаться в сверкающих иномарках. Один автобус увез музыкантов, другой – танцовщиц, еще один, типа маршрутки – официантов. Улица опустела, и в нее, как струя чистого воздуха, стали вплывать тишина и прохлада… И звук «ширк-ширк» тети Клавы.
* * *
В то утро старый Юрка проснулся на удивление бодрым и свежим. До его Петрова не долетали звуки того шума и треска, сотрясавшего Ругачево всю ночь до рассвета. В Петрове было всё, как всегда, и даже часы на стене не тикали, потому что невестка Юрки забыла на прощанье вставить новую батарейку, а ему было недосуг. Он, пенсионер-солнцеед, не нуждался в таких подробностях жизни, как «который час», а тем более в мелком дроблении времени отпущенной жизни на минуты. Его циферблат – небо, на которое ему, жителю пустеющей в глухозимье деревни, всегда удобно было взглянуть, и из окна, и посреди дороги. И оно исправно обозначало: утро, день, вечер или ночь. А подробности Юрке и ни к чему.
Юрка выдвинул ящики комода и раскрыл настежь дверцы шкафа, рассматривая развешенные там его рубашки, тщательно постиранные и заштопанные невесткой, приезжавшей летом с детьми погостить. Ее хлопоты-заботы, честно отработанные ею за безмятежный дачный постой летом в деревне. Впервые Юрка заметил, что не было ни одной рубашки радостного цвета, ласкающего глаз веселенькой клеточкой или рябинкой. Все они были «любимого цвета советского народа – немаркого». Он достал наиболее приглянувшуюся ему, насколько это было возможно в данном выборе, рубашку. И впервые отметил про себя, что даже постиранные, чистые рубашки бедного человека пропитываются запахом старого шкафа. И поэтому люди пожилые и бедные и пахнут старым деревом, вернее, старым потным деревом.
Этим утром он решил пораньше пойти за пенсией. А получив ее, потом – не за бутылкой спешить, а купить новую рубашку, не пахнущую его непутевой жизнью. По-старинке без стука в незапертую входную дверь вошел Жорка – его сосед-собутыльник. Тоже житель Петрова. Его вросшая в землю изба была на самом отшибе. Он, не здороваясь, выразительно хлопнул руками и потер ладони. Подмигнул Юрке, стоящему у зеркала. И, как привычный пароль, произнес «угу», обращенное к Юркиному отражению в зеркале.
– Нет! Сегодня ты давай без меня! – спокойно ответил Юрка.
– Так ведь… ты ж вроде как собрался идти? – удивился Жорка такой неожиданной непонятливости и неконтактности соседа и многолетнего безотказного собутыльника.
– По делам ухожу!
Озадаченный Жорка замер в ожидании разъяснений. Но вместо этого Юрка, явно не желавший делится своими тайнами, а ответить что-то нужно было, взглянув, на лежащий на тарелке кусок хлеба, скороговоркой произнес:
– Что-то чешется внутри…
Видно это бутерброд,
не проваренный с утра,
ткань желудка рвёт.
Разобиженный такой неискренностью, Жорка чертыхнулся и исчез за порогом дома. А Юрка, надев куртку и кепку, прощальные до следующей весны подарки невестки, пошел один привычным маршрутом – в Ругачево.
* * *
Марат играл и болтал во дворе с забытым осликом, на спине которого красовались большущие проволочные крылья бабочки из яркой ткани, обтянувшей каркас ярких крыльев. Поникшую голову ослика с густой гривой, как и накануне, все так же украшала чалма из каких-то переливчатых тряпок с ярко оранжевым пером, приделанным сбоку. Марат кормил его спрятанным под курткой лавашем, потихоньку унесенным из кухни после завтрака. Он отламывал по кусочку и давал задумчивому ослику. А пока тот жевал хлеб, успевал нежно погладить его по шершаво-бархатистой шее.
Когда хлеб закончился, Марат повел ослика к тому месту, которое раньше было его песочницей, держась за болтающуюся уздечку. Ослик, немного поупрямившись, все же медленно пошел за ним к песочнице, теперь превратившейся в непонятное, но забавное сооружение в виде декоративного шатра, возвышавшееся над песком. Ослик стоял и равнодушно смотрел на то, как Марат лепит из песка, что-то ему рассказывая.
Проезжавший мимо милиционер, увидев сидящего в песочнице Марата, тотчас сообразил: «А мальчонка-то – азиатик! И прошумевшая на все Ругачево вечеринка «Гастарбайтер» тут «очень даже вяжется».
Он притормозил. Вышел из машины. Подошел к Марату.
– Эй, малец! Отведи меня к себе домой. Хочу с твоей семьей познакомиться! – обратился он к мальчику. Марат пожал плечами, но послушно вышел из песочницы. Подошел к милиционеру.
Отряхнув руки от песка и потерев их для чистоты о свои вельветовые штанишки, доверчиво обхватил своей ладошкой его висящий увесистый кулак. И молча потянул его к ателье «Маргарита».
Это привело милиционера в замешательство. Он не ожидал, что мальчик потянет его в ателье, предполагая, что малыш отведет его в арендуемый под ночлежку гастарбайтеров один из домов – старых развалюх Рогачёва. И еще больше растерялся, увидев белолицую и голубоглазую, по-городскому элегантную Маргариту, встретившую его у входа в пустующее ателье модных шляп вместо лежбища гастарбайтеров.
– Мам! Дядя к тебе пришел! – Сказанное Маратом и совсем поставило его в тупик.
Но тем не менее он продолжил свои дела и, обратившись к Маргарите, сказал:
– На вас весь район жалобы написал! Нарушаете общественный порядок. Совсем оборзели! Что вчера творили?! – прикрикнул он на изумленную Маргариту.
Марат сначала бросился к матери, обхватив ее бедра руками, как дерево, стараясь прикрыть ее от опасности. И, повернув лицо к милиционеру, крикнул:
– Уходи, злой!
Но вдруг, точно передумав, бросился в свою комнату, к разбросанным игрушкам и книгам. Что-то поискав там, он вернулся с книгой сказок. Раскрыл ее. И, уронив саму книгу, достал из нее все свои сокровища разом. У него в руке оказались лежащие веером все его фантики, а среди них купюра, данная ему Стилетом при первой встрече.
– На! Бери! Уходи! Не обижай маму! – почти выкрикнул раскрасневшийся от страха за Маргариту Марат.
Милиционер рассмеялся, протянув ручищу к этому цветастому вееру. И ловко, одним движением сложил «веер», так что фантик от «Чупа-Чупса» оказался сверху, прикрыв купюру в сто евро. Милиционер взял эту пачку и, смеясь, озвучил происходящее, как бы в шутку попугивая Марата:
– Это что за безобразие?! Ты меня при исполнении «Чуп-Чупсом» угощаешь? Далеко пойдешь, хитрован! Ха-ха-ха! – и протянул другую руку к уху Марата.
Но теперь уж и Маргарита не стерпела. Она резко схватила Марата, прижимая к себе так, что тот оказался за нею.
– Все?! – спросила она, явно давая понять, что ему пора уходить.
Милиционер сунул пачку богатств Марата в свой карман. В этот момент заскрипела дверь ателье. И, покашливая и явно смущаясь, вошел старый Юрка. Он вроде бы поклонился, напряженно рассматривая все происходящее и сразу же увидев, что происходит что-то скверное, резко выпрямился.
– Юрка! Ты-то, старый, что здесь забыл? С пивнушкой перепутал? – рассмеялся милиционер, озадаченный этой встречей.
– Юрий Андреевич я! – резко отрезал в ответ Юрка и добавил: – Тюбетейку пришел купить!
– Сдурел, дед?! Так уже ушанкой пора запасаться! А ты за тюбетейкой. Ну, ты даешь, дед! – смеялся милиционер, неохотно отступая к выходу. И всё же окончательно решил уйти, тем более что свое уже получил. Да и какой-никакой, а все же свидетель и этот «солнцеед» – старый Юрка.
И он ушел, громко хлопнув дверью, посмеиваясь над всем увиденным, что никак не вписывалось в его представления.
Маргарита, прижимая к себе Марата и поглаживая его по головке, чтобы успокоить, выдохнула с облегчением:
– Ушел! – и неожиданно коротко и тихо произнесла:
– Спасибо! Как вы вовремя!
И с нескрываемым удивлением спросила, пытаясь припомнить, где же она видела этого старика:
– А вам правда тюбетейка нужна? Или Вы просто так спросили? – произнесла она настороженно, рассматривая этого тощего, словно изнуренного старика, пытающегося держаться молодцевато, нарочито выпятив грудь и, распрямив костлявые стариковские плечики.
– Я за тюбетейкой вашей пришел. О ваших тюбетейках всё Ругачево гудит!
– Да? Гудит? И что ж гудят? Вы присядьте вот сюда! – спросила она, и она провела его к стулу, подвинув его так, чтобы Юрка сидел прямо перед зеркалом. – А я буду вам показывать тюбетейки. Выберете, какая понравится. Правда, у меня почти все вчера раскупили. Тут у нас такое светопреставление ночью было. Да вы, наверное, слышали? И осталось у меня только две тюбетейки. Так что – выбор невелик! – говорила она, открывая коробку с двумя, как она думала, оставшимися тюбетейками.
– Да нет! У нас в Петрове ничего слышно не было. А хотя… вспомнил! Разбудила меня пальба среди ночи. Выглянул в окно, а отсюда фейерверки были аж у нас видны. Такие салюты! Только в Москве такие видал. Да и то таких красивых в мое время не было!
– Ой! А я ошиблась! Со счету сбилась! Только одна осталась! Только бы как раз была!
Подала ее сидящему Юрке, с удивлением глядя на странного старика в явно только что купленной белой рубашке, поверх которой был надет новый, великоватый ему пуловер с болтающейся сзади, не отрезанной вовремя этикеткой с ценником и залихватской надписью «Made in China». Да еще и галстук, к которому этот деревенский старик явно не привык. Точно в первый раз надет. По ярко-фиолетовому фону люрексом вышиты две пальмы у моря на фоне заходящего солнца. Одна – гордая, прямая, а вторая – приникшая и печальная. Над ними, выложенная мелкими стразами, вьется чайка. Этот галстук и прошлым жарким летом никто не брал, а тут вдруг старому Юрке понадобился! Это развеселило продавщиц, когда старый Юрка к их общему изумлению, решил купить это курортное великолепие. Узел на этом «гавайском» галстуке ему завязывали всем отделом магазина «Элегант», что на площади Осипова в Рогачёве, приговаривая чистую правду:
– В Москве такой не купишь! Да, такого нигде не найти!
Их шуточки по поводу срочно понадобившегося ему такого яркого галстука и расспросы: «К кому свататься идешь, дядь Юр?» – развеселили и его. И даже как-то взбодрили. Еще бы, внимание стольких дам сразу! Птичьей стайкой заверещавших ему на прощанье, когда и галстук был выбран, и узел как надо завязан:
– Дядь Юр! Ну, если невеста тебе откажет, ты к нам возвращайся! Мы все вместе за тебя пойдем! Не мелочись – бери сразу гарем!
И вот теперь он сидел в этом сверкающем галстуке и смотрел на Маргариту строго, торжественно и почему-то радостно, как ребенок на новогоднюю елку.
«Везет же мне на покупателей последнее время! Один чуднее другого!» – промелькнуло в голове Маргариты, подносившей Юрке единственную оставшуюся тюбетейку и пытавшейся вспомнить, где видела раньше этого старика.
– Говорят, что, как только наденешь вашу тюбетейку, сразу голова не болит, – сообщил ей Юрка для серьезности строгим голосом.
– А у вас что, голова болит? – удивилась Маргарита. Но, видя, как странный покупатель отрицательно замотал головой, рассмеялась и добавила:
– Думаю, что в моих тюбетейках голова не болит у тех, у кого голова вообще ни о чем не болит! Вот ведь придумал же кто-то такую глупость! Главное, чтобы не подумали, будто я сама эти слухи распускаю, чтобы их покупали. Но все равно – приятные слухи, хоть и смешные! – рассмеялась Маргарита.
Юрка сидел такой счастливый и одеревеневший от счастья и одновременно от страха спугнуть это чудо, эту радость видеть, любоваться ею. Маргарита точно корону возложила на его голову тюбетейку, щедро расшитую ее рукой стеклярусом и бисером.
И таким старым и дряхлым стариком – но королем сидел Юрка посреди ее ателье. С полным почтением! Ведь он оказался защитником и ее, и сыночка ее в трудную минуту. И он сам с удивлением рассматривал самого себя в большом зеркале ателье. Но что за радость ему была смотреть на себя, а тем более в таком большом зеркале, в котором было предательски видно все то, что лучше и не видеть вовсе. Поэтому он смотрел только на Маргариту, слушая ее голос, как слушают музыку или пение птиц, не вслушиваясь в то, о чем звучит, и не пытаясь понять. А наслаждаясь тем, как звучит голос.
– Красивая тюбетейка. Правда, сами делаете? – спросил он.
– Правда! Конечно, сама! Вам нравится? – обрадовалась Маргарита, что старику, невольно спугнувшего милиционера, так напугавшего Марата, понравилась ее работа. И она даже испытывала чувство благодарности за невольное спасение.
– Беру! Сколько стоит? – спросил он, нарочито посерьезнев, чтобы не подумала она, что он так – развлекушки тут строить пришел. Чтобы ясно было, что он человек серьезный. «Да и от пенсии еще осталось, как раз хватит!» – прикинул Юрка.
– А я хочу вам ее просто подарить! То есть мы с Маратом вам ее дарим. Марат! Иди сюда, посмотри, как дедушке идет тюбетейка. Хорошо, правда? Марат! Где ты?
Юрка не успел и возразить ей, как она выпорхнула на улицу за сыном.
Юрка взял куртку и пошел к выходу, понимая, что праздник, которого он так ждал, закончился.
Марат, конечно же, как только увидел, что опасность миновала, вернулся к ослику, успев прихватить для него на кухне еще батон белого хлеба. Маргарита, увидев ослика, конечно, порадовалась, что Марат сообразил покормить его. Тот по-прежнему невозмутимо жевал, думая о чем-то своем.
Ослик во всем своем украшении был каким-то чудом, выпавшим из неведомой сказки. Маргарита, Марат и Юрка смотрели, поглаживали ослика и его крылья на спине.
– Так сколько я должен за тюбетейку? – спросил Юрка Маргариту.
– Так я же вам ее подарила! Носите на здоровье! Вот видите: это день такой – полон чудес! Даже крылатый ослик во дворе очутился! – смеялась Маргарита, выложив на своей изящной ладошке кусок хлеба, который ослик поглаживал, ощупывая языком, но никак не хотел есть.
Но их троих отвлек женский крик:
– Пегаска! Вот ты где! Ко мне, Пегаска! Ко мне! – кричала женщина в ярко-красной стеганой куртке, выглядывая из кабины фуры, за рулем которой сидела она сама. Она въехала во двор и, выпрыгнув из машины, подбежала к ним.
Ослик преобразился, подпрыгнул и радостно завел свое «ийя-ийа», направляясь к этой женщине!
Женщина, выскочившая из фургона, резко отодвинула руку Маргариты и без признаков какой-либо вежливости спросила:
– Чем вы тут его кормили? – строго оглядывая всех троих.
Она была румяной, полной, лет тридцати с небольшим, в красной стеганке, с разметавшимися по плечам светло-русыми, с веселой рыжинкой волосами.
– Хлебом… – ответили они оторопело.
– Главное, консервы никакие или колбасу не давали? Ой, бока-то, наверное, натер этими крыльями, – причитала она, рассматривая своего крылатого ослика.
Потом она ловко открутила его крылья и сняла чалму, что очень обрадовало ослика. И он точно маму увидел – оживился и уткнулся в ее бок. Она достала тюбик с мазью и смазала потертости на боках, оставшиеся от «крыльев бабочки».
– Нет, никаких консервов или колбасы. Только хлебом покормили! – объясняла Маргарита, разглядывая, как ловко незнакомка управляется с осликом и намазывает его бока мазью, которую та достала из кармана вместе с пластырем, прикрыв им места потертостей.
– Представляете, мой напарник вчера забирал животных, я-то вчера выступала далеко отсюда – гастроли!.. Ой, здравствуйте! Я – Нина, я дрессировщица!.. Ну вот, и он забыл тут нашего Пегасика. Всех погрузил в фургон, а Пегаса забыл. Я, как узнала об этом, сразу уволила. А сама скорей поехала забрать Пегасика. Хорошо, что он далеко не ушел, а то и потеряться мог. Он же у нас артист. Пегаска умница! Пегаска красавец! Пегасик у нас главный! – Это она приговаривала, поглаживая ослика и радуясь, что он нашелся. – А тут субчики какие-то арендовали его на вечер. Я доверила, потому что за них попросил мой сокурсник по цирковому училищу – Стилет. Ой! Все Стилет да Стилет! И имя его забылось! Ох, не люблю я в аренду животных отдавать! Но ведь деньги-то реальные за аренду платят. Спасибо, что покормили Пегасика, попридержали у себя. Спасибо вам! Я… вот вам – это контрамарки в наш цирк от меня, ну, знаете – в Клину мы выступаем уж третий год. И на входе скажите: от Нины Златогорской. Это я – Нина Златогорская! У меня такой номер там! Приезжайте! Посмотрите! – сказала она, протянув Маргарите и Юрке визитные карточки с фотографией-рекламой ее номера, где она, очень красивая, с прической локонами, в голубом платье, на вытянутых руках, как на ветвях, держала белых голубей.
И, попрощавшись со всеми, она повела Пегаску в фургон.
– А вы в Клин обратно поедете? – сообразила Маргарита.
– Да, в Клин, а что? Подбросить нужно? – спросила Нина.
– Да, вот дедушка из Петрова, как раз по пути в Клин.
* * *
Кабина фургона была высокой. Из нее было видно далеко, как раскинулась Клинско-дмитровская гряда – во всей красе, с ее синеющими далями и распахнутыми ясно-синему в этот день небу просторами. Удивительно красивый выдался день: с высоким осенним небом, пронзительно яркими цветами земли, вспыхивающими вдали отдельными пятнами рыжей, последней в этом году листвы. Нина вела свой фургон лихо, на скорости. И, охотно смеясь, болтала всю дорогу. И все уговаривала Юрку обязательно приехать в цирк, посмотреть на ее выступление. И на Пегаса полюбоваться. На то, какой он молодец, какие номера она с ним поставила.
– Вы обязательно приезжайте в наш цирк! Я выступаю там с Пегаской, у меня номер с белыми голубями. Они у меня умненькие, послушные, красивые. И платье такое мне сшили для этого выступления – вот как сегодняшнее небо, бирюзовое, яркое, с блестками… – болтала веселая Нина Златогорская, управляя машиной. А вам, дедушка, в тюбетейке-то не холодно?
– Нет! Мне хорошо! – улыбнулся Юрка. – Это мне Маргарита подарила, она сама их делает и вышивает.
– О! Правда красиво! – отметила дрессировщица, на мгновение повернув голову к Юрке.
* * *
«Вот ведь удивительно! За столько лет монотонной жизни один раз «отклонился» в своих водочных походах в Ругачево – и на тебе! Совсем другая жизнь кругом! А она рядом была, эта самая жизнь! И в ней даже голуби – умные! И Пегаска – всё понимает, и с крыльями, и без! Один я полный дурак! Все эти годы жил как слепой и ничего вокруг и не видел! Проглядел жизнь! Мою жизнь! А что, может, правда взять, да и поехать в цирк? В Клин? А? А и поеду в цирк!» – ответил самому себе Юрка, стоя у забора своего дома.
Он все не торопился возвращаться домой. Стоял, глядя на петляющую дорогу, по которой дальше уехала в свой цирк Нина Златогорская. С удовольствием, словно смакуя, вдыхал свежий осенний ветер, любуясь синеющими далями, в которых рыжими пятнышками вспыхивали пожелтевшие листочки, как яркие веселые веснушки на румяном и смешливом лице дрессировщицы Нины. Усмехнулся, подняв голову и взглянув на небо, словно разгадал её девичий секрет:
«А платье-то голубое-голубое для выступлений в цирке она сделала «под цвет глаз», не иначе! Эх, мне бы в старости дочку такую! Как у Христа за пазухой жил бы! Надо же, дрессировщица! Значит, со зверьми крутится и управляется! А значит, и с коровой управилась бы! Руки-то у неё ловкие, сильные. Да и свинью бы завели. И цыплят, они ж как одуванчики по весне во дворе – желтые. От них во дворе весело было бы! Да что за старость без дочки-то!»
Почему-то промелькнули, крутанулись в голове какие-то новые стишки:
– Жили-были. Были-жили… Что нажили?
– Сто грехов! Чтоб исправить их,
не хватит и ста жизней без долгов!
– Хватит, грешник!
Не греши! И ступай на Небеси!
Юрка сам удивился тому, что забрело в его голову, украшенную тюбетейкой Маргариты. Подумав, что позабавит этим стишком таксистов, если подвезут его по пути в Ругачёво в Ругачёво. И повторил еще раз «про себя», чтобы лучше запомнить. Вздохнул и пошел в дом. А заходя в свой дом, он почувствовал странную навалившуюся усталость. Ползущую, обволакивающую, наливающуюся тяжестью и тоской, вдруг скосившую его. И Юрка, едва успев снять у порога куртку, не раздеваясь, свалился на кровать. После забытья он открыл глаза и понял, что закончился тот яркий и солнечный, с ясно-голубым небом, «как платье Нины Златогорской», день! И опять провалился в сон.
«Эх! Не запас себе на поминки! А надо было бы на поминки запасти водки! Кто ж меня помянет? – с досадой сообразил Юрка, выныривая из забытья. И отчетливо мысленно добавил:
– А ведь, похоже, пора! И некому будет стакан с куском хлеба, прикрывающим его, как крышка… некому, некому на подоконник поставить! Самому нужно сделать, пока силы есть».
И с этими мыслями он с трудом поднялся. Опираясь на край стола, попытался выпрямиться, но боль незримой финкой вонзалась в него слева через подреберье, проникая всё глубже и глубже. Боль перехватила его дыхание.
«Успеть бы!» – пронеслось в голове. И Юрка, передвигаясь к окну, держал стакан с водкой, метавшейся на донышке в его трясущихся руках. Больше в доме не оказалось. Он бережно прижимал стакан к груди, точно хотел дать на прощанье выпить своему болящему сердцу, заглушить боль. Но боль заселялась в его сердце всё настырнее, обживая каждую частичку его, выселяя из него его беспомощную жизнь. А потом эта боль перестала быть частью его самого, а захлестнула весь его мир. Он дошел до окна и опустил стакан с заветренным ломтем чёрного хлеба. За окном было солнечное утро. Солнечные зайчики блеснули через грани совкового граненого стакана, разбежались по Юркиному жилищу.
«Утро… Хорошо!» – подумал Юрка, пытаясь открыть глаза. Но тут вдруг увидел, что за окном темная ночь. Он внезапно сообразил, что эта тьма – не ночь, а его боль.
Выплеснувшаяся из него наружу, вся его боль вышла из него и залила жгучей тьмой всё вокруг, застилая его глаза. Но в этой непроглядной мгле отчетливо стала видна идущая от калитки к окну улыбающаяся ему его Олюшка. Такая молодая, молодая, босая. Вот она по первому снегу идет, не оставляя следов. И рукой машет ему так приветливо, и словно зовет его к себе. Юрке стало и радостно, и стыдно. От того, что подумалось ему, что, наверное, ей оттуда видно всё было – как непотребно жил он все эти годы без неё. Да еще и влюбился в прекрасную Маргариту. И хоть только в мыслях, а вроде как изменил Олюшке своей старый Юрка.
– Не кори себя, Юрка! – рассмеялась в ответ его мыслям жена его Ольга.
– Так и сам не пойму, что за наваждение нашло! Но ведь ты и сама оттуда видела – это ж не разврат какой-нибудь со мной случился. А чувство нашло! Нежность какая-то! Вот ведь вроде бы и не человек я давно, а одеревенелость какая-то. А чувство появилось. И зачем оно мне? Сам не пойму…
– Так чтоб человеком пришел, чтоб ожившим стал! Идём! Идём! – звала его Олюшка, как когда-то, протягивая к нему свои красивые белые руки, нестерпимо белые в этой ночи. А Юрка все эти годы помнил, какие сильные и проворные в работе были её руки днем и ласковые, нежные ночью. Всё помнил.
Стакан с ломтём, как опустевшая клетка сбежавших солнечных зайчиков, остался стоять на подоконнике. А Юрка шёл и шёл следом за женой. Поднимаясь всё выше и выше, по кустам, по ветвям деревьев, а потом совсем затерялся в ночном небе, в толпе звезд, комет и незнакомых ему людей, почему-то приветливо улыбавшихся ему.
* * *
Хоронил Юрку через неделю верный собутыльник Жорка. То, что Юрка умер, случайно обнаружил его сосед с пасеки – Николай. Не смог подняться по осенней распутице к себе на пригорок. И, как и в предыдущие годы, зашел к Юрке, чтобы загнать к нему во двор свою машину. На время распутицы, а самому уже без машины подняться к себе. Тут ему и бросился в глаза стакан с хлебом на подоконнике. Сосед подумал, что стакан поставлен кем-то из Юркиных знакомых, уже похоронивших его. И удивился, что настежь открытая дверь, поскрипывая, моталась на ветру. Здесь в Петрово, как и в старину, по-деревенски не запирали входные двери. Заглянул сосед и увидел лежащего на кровати Юрку – Юрия Андреевича, в белой рубашке, с нестерпимо и нелепо ярким в царящем вокруг убожестве, галстуком. И почему-то в тюбетейке. Покойный безмятежно улыбался, глядя в потолок распахнутыми от восторга голубыми глазами, словно видел перед собой не старый, потемневший под олифой дощатый потолок, а что-то величественное и бесконечно прекрасное.
* * *
С того дня, когда Маргарита расспросила Марата о той купюре, что он дал милиционеру, душа ее была в тревоге. И без того измученная туманными ответами на ее запросы о поисках исчезнувшего Нарзикула Давронова, она места себе не находила. И эта мутная история испугала ее. Она боялась отпускать Марата на улицу. И даже запретила ему играть в песочнице. Марат просился в цирк, увидеть Пегаса. Но что-то останавливало ее – отсутствие ответа на ее запросы об исчезнувшем муже и страх за Нарзикула Давронова словно запрещали ей радоваться, улыбаться. Внутренний голос отчетливо произносил: «Нарзикул». И она безошибочно ощущала: «Нет! Недопустимо никакое веселье!» И опять погружалась в томительное ожидание ответа о судьбе Нарзикула.
* * *
Босс уже неделю напрасно поджидал, когда Марат, как обычно рано утром, выйдет на улицу. И всякий раз с появлением знакомого «ширк-ширк» уезжал, дав отмашку рукой другой, притаившейся поодаль машине, в которой сидели три таджика. Но в это серое, мглистое утро ему повезло. И его засада увенчалась успехом. Маргарита крепко спала в то утро. Проспала даже приготовление Марату завтрака. Недоглядела за сынишкой!
И Марат утром улизнул на улицу. Залез в тот странный шатер, раскинувшийся над песочницей. И удивился, что в такую рань не он один появился на улице. Три незнакомых таджика шли к нему. Настороженно, понуро, озираясь. И тут Марат увидел то, что потрясло его. Он вскочил, почувствовав, что даже задохнулся, захлебываясь от нахлынувших разом чувств: желания кричать, бежать и молчать от ужаса одновременно. Через мгновенье он сам бросился навстречу к этим типам с криком:
– Отдай! Отдай!!!
В его раскосых, угольно-черных глазенках закипела та особая, азиатская беспощадная злость, которой все нипочем. Прыжком эти трое оказались рядом с ним и схватили его. Поволокли в сторону машины. Но Марата занимала только рука с перстнем одного из его похитителей. Он злобной осой вцепился в его руку, пытаясь сдернуть перстень. Другие двое его приятелей попытались оторвать Марата от руки их соучастника.
* * *
Это был день Юркиных похорон, унылый, серый день. С самого утра с низко ползущими сизыми тучами, набухающими близким тяжелым проливным дождем. Жорка, стоя над холмиком чернеющей земли, свежеперекопанной, осенней, тяжелой от влаги дождей и таявших первых снегов, задумался о том, что надо бы помянуть Юрку. Но вспомнил, что совсем не при деньгах. Поднял голову к небу в этих раздумьях и сожалении, что не по-людски это – не помянуть человека, как вдруг почувствовал, что на его лицо упали капли дождя. Сначала дробно зачастившие, а потом хлынувшие даже не дождем, а разразившиеся ливнем.
«Успели до дождя закопать…» – с удовольствием для себя подумал Жорка, но мысли его тотчас оказались отвлечены странным впечатлением от этого дождя. Он облизнул губы и, подставляя их хлынувшему дождю, изумился, широко открывая рот. А потом, проворно сложив ладони в пригоршню, стал ловить струи дождя. Быстро глотая – выпивая собранное, что накапало в его ладони.
– Мужики! Мужики!!! Ну, ей-богу! Нашему Юрке на поминки небеса послали настоящую, его любимую «Столичную»-отличную! – крикнул он могильщикам. Но и те уже тоже успели вкусить даров небесных. И с хохотом тоже поминали старого Юрку, ловя струи дождя: сначала в сложенные ладони, а затем просто открытыми ртами. Потом побежали в кладбищенскую контору. Выволокли на улицу тазы, тарелки, стаканы, чашки и даже кастрюлю. Все, что можно было наполнить этим удивительным поминальным дождем, щедро изливавшимся над всем Ругачевом до самого Юркиного Петрова. Так, чтоб всем хватило старого Юрку помянуть!
* * *
Дождь этот чудной шел не более часа. Но именно в то самое время, когда случилась беда с Маратом. В тот самый момент, когда Марата схватили и уже дотащили до машины, чтобы запихнуть его в багажник, поминальный дождь отвлек похитителей. И, не обращая внимания на кричащего и вырывающегося Марата, его похитители вдруг замерли с нелепыми улыбками недоумения на лицах, что поразило сидящего поодаль в машине босса, с раздражением глядевшего на идиотизм происходящего. Но он не решился посигналить им, чтобы поторопить, опасаясь привлечь ненужное ему внимание.
И вдруг словно осточертела похитителям Марата эта грязная работа. И они, как последние идиоты, разевая рты, скакали и смеялись под струями внезапно разразившегося ливня, все же не выпуская мальчика из цепких рук.
Босс включил дворники, разгонявшие струи ливня по лобовому стеклу, чтобы рассмотреть, что же там творится. И он с изумлением смотрел, не понимая, что же такое творится, почему они сразу не затолкали Марата в машину, а вместо этого почему-то вдруг превратились в пьяных придурков с раскрытыми ртами. Марат дергал за палец своего похитителя, пока другой, жестко прижав его к своему боку, тащил ребенка, болтающего в воздухе ногами. Тот, с пальца которого Марат пытался сорвать перстень, помогал, стараясь закрыть рот мальчика своей жесткой ладонью. Третий пытался поймать его ноги, чтобы помочь нести и удобнее было запихнуть его в машину. И все это они делали с дурацким хохотом, спотыкаясь и роняя Марата. Поразительно, но Марату все же удалось отнять перстень, который оказался великоват похитителю. И потому Марату удалось стащить перстень отца с пальца похитителя.







