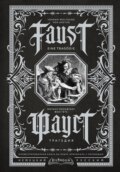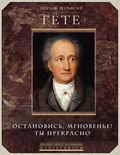Иоганн Вольфганг фон Гёте
Страдания юного Вертера
«Вертер, – сказала она наконец: – и с этой-то женщиной мы должны были расстаться! Боже! Подумаешь, как разлучаемся мы иногда с тем, что нам дороже жизни? И никто кроме детей… Да, только дети ещё иногда вспоминают, да горько жалуются: «Черные люди унесли нашу маму!»»
Она встала. Я был взволнован, поражен; оставался на месте; держал ее руку.
«Пойдёмте, – сказала она: – пора!» Она хотела освободить руку; я держал её крепче.
«Мы свидимся, – сказал я: – Мы свидимся, и какой бы образ ни приняли мы – мы друг друга узнаем! Я иду, – продолжал я, – Иду; но чтоб сказать – навсегда, недостаёт сил! Прощай, Лотта! Прощайте, Альберт! Мы увидимся!»
«Завтра, надеюсь», – прибавила она шутя.
Это завтра отозвалось у меня в сердце. Ах, она не знала, когда расставались наши руки!
Они шли аллеей к террасе. Я стоял и смотрел им вслед. Луна осветила их на площадке лестницы. Я кинулся на траву и зарыдал, как ребёнок; затем опять вскочил и бросился на террасу. В сумраке последних лип мелькнулось белое платье, мелькнуло перед садовой калиткой… Я руки к ней – она исчезла.
Книга вторая
20 октября 1771 года
Мы приехали вчера. Посланник захворал и стало быть останется здесь на несколько дней. Не будь он такой увалень, всё было бы хорошо. Да, да, судьба готовит мне тяжкие испытания; это я предвижу. Но бодрей! Легкомыслие сносит всё. Легкомыслие? Мне даже смешно, как сорвалось это слово с пера. О, будь я хоть немножко хладнокровнее, я был бы счастливейший человек на свете! Как? Когда другие со своими крохотными способностями самодовольно разъезжают на рысаках, я сомневаюсь в моих силах, дарованиях? Боже правый, зачем же не удержал? Ты половину их и в замену не взыскал меня самоуверенностью и самодовольствием?
Терпение! Терпение! Время всё исправит. Да, любезный, ты прав! С той поры, кала я вожусь с этим народом и вижу, что люди делают и как они делают, я росту в своих глазах. Конечно, уж если мы привыкли сравнивать всё с собой и себя со всем, что окружает нас, так и счастье, и бедствия наши должны зависеть от отношений, в которые мы поставлены, и одиночество тут опаснее всего – оно разжигает воображение, а фантазия, подстрекаемая вымыслами поэзии и увлекающаяся по самой природе своей, образует целый ряд существ, более вас возвышенных, и оно естественно: иногда мы думаем, что нам недостаёт именно того, чем обладает другой. Тут, как бы заодно, часто приписываем ему и то, чем сами одарены; да, на придачу, наделяем его и тем идеальным довольством, к которому напрасно стремимся сами, и образец счастливца – продукт собственной же вашей фантазии – перед нами.
Напротив, если, при всей нашей слабости, мы хотя и кропотливо, но неуклонно, не избегая людей, идём прямо к цели, то оказывается, что тот, кто лавирует и выжидает, иногда уходит дальше, нежели одинокий пловец на полном ходу, на всех парусах; а не отстать, да ещё другого опередить – как это их подымает в собственных глазах!
26 ноября 1771 года
Мало по малу, начинаю привыкать к здешней колее. Лучше всего то, что у меня дела много. Прибавь к этому разнородные личности, множество новых физиономий, непрерывную их суетню и картинка выйдет довольно пёстрая. Я познакомился с графом К* – и моё к нему уважение растёт ежедневно. Обширная, светлая голова. Многосторонность его причисляется именно тем, что он не холоден к чувствам дружбы и любви. На днях я докладывал ему, и с первых же слов он, кажется, смекнул, что мы сойдемся, что со мной можно говорить как не со всяким. При этом он весьма тонко выразил мне своё участие, и я не могу довольно нахвалиться его прямодушным обращением. Да, на свете нет ничего дороже тёплого, открытого сердца. Какое благо, какая отрада в излияниях высокой души!
24 декабря 1771 года
Посланник мне крепко солит, и это я предвидел. Положительно, он положительнейший дурак. «Шаг, – говорит, – за шагом!» – и щепетилен, как старая кумушка. Всегда в разлад с собой, он не уживается ни с кем. Я работаю довольно легко и пишу, как пишется. Дело, как оно есть, налицо; так нет – непременно откопает что-нибудь и возвратит бумагу, говоря: «Хорошо; но более меткое словцо, почище фраза, поглаже периодец всегда найдутся». Ко всем чертям бы его! Никакое» и», никакой союз от него не ускользнут; всё будь как по прописи; а новым оборотам, как бы хороши ни были, он смертельный враг. Да представь, сочинил еще какую-то свою, канцелярскую мелодию, и если ей что не в такт, он уж и пропал, ничего не понимает. Что за несчастие иметь дело с таким человеком!
Одно, что ещё спасает меня, это доверие ко мне графа К*. В последний раз он с полною откровенностью выразил мне свое неудовольствие на щепетильность и мелочную придирчивость посланника. «Такие люди, – сказал он: – в тягость себе и другим. Но что же делать? С ними как с косогором. Путешественнику, конечно, приятнее было бы проехаться по гладкой дороге; она же и короче; но горка легла поперек, и – делать нечего – шагай через неё!»
Мой старик пронюхал, что граф отдаёт мне преимущество перед ним. Это злит его, и он пользуется всяким случаем, чтоб отзываться дурно о нём. Я, разумеется, держу сторону графа и тем ещё более порчу дело. Вчера я был взбешен, потому что он и меня задел. «Граф, – говорит, – для светских дел находка: работает легко и владеет пером; но основательных научных сведений ему, как и вообще беллетристам, недостает». Тут он прищурился, как бы говоря: попала булавка в цель? Но на меня это не подействовало. Я пренебрёг человеком, который может думать и обращаться так; не уступал ему и заговорил довольно горячо. «Граф, – сказал я: – человек весьма замечательный, как по уму и многосторонним сведениям, так и по характеру. Не знаю здесь никого, – прибавил я, – кто бы соединял с такой широкой душой такое богатство познаний; кто бы вещи видел так ясно и имел столько житейской опытности». Этого желудок его не мог переварить, да и в башку кое-что не лезло. Я воспользовался его одурением и, чтоб избавиться от лишней желчи, раскланялся.
А чьему краснобайству я этим хомутом обязан? Кто мне о деятельности уши прожужжал? Вы же, мои милые. Хороша деятельность! Ну, право, десять лет готов я просидеть ещё на каторге, в которую вы втащили меня, если тот, кто садить картофель, да ездить в город на продажу с четвертью ржи – не делает больше нас!
А эта мишурная нищета! А эта скука с народом, что с утра до вечера торчит в приемной и только глазами хлопает! Это чинобесие! Ведь спят и видят только, как бы друг друга хоть на шаг опередить. И что за крохотные, что за жалкие страстишки; да и те нагишом! Вот эта женщина, например, что всем прожужжала уши о своей знатности, о своих владениях! Со стороны подумаешь: ну что ж, замечталась, дура. Знаем мы эти знатные роды! Знаем эти воздушные замки! А на поверку вышло, что она просто дочь волостного писаря. Унизительно, глупо, пошло. Вот и пойми человечество!
В тот же день.
И то сказать, нельзя мерить всех на свой аршин. К тому же, у меня столько с самим собой хлопот, сердце мое так ещё бушует порой, что я с каждым днём хладнокровнее смотрю на глупости других, и часто думаю: пусть бы их шли своей дорогой, лишь бы мне не мешали идти своей!
Что меня в особенности выводить из терпения, это мелочность мещанских отношений, что слывут за гражданские условия. Сознаю не хуже другого необходимость некоторого различия в состояниях; сознаю это и по тем преимуществам, которыми пользуюсь сам. Требую только, чтоб они поперёк дороги не становились и не лишали другого той малой доли радости и счастья, которые и без того уже для большинства не больше, как тень! Недавно познакомился я на гулянии с девицей Б*, с милым созданием, сохранившим много натуры среди жизни извращённой и натянутой. Беседа сблизила нас – и на прощании она позволила мне навестить её. Позволение было дано так приветливо, так радушно, что я насилу мог дождаться удобной минуты. Б* не здешняя и живет у своей тётки. Физиономия старухи мне не понравилась; но я оказал ей должное внимание и в разговоре обращался наиболее к ней. Менее чем в полчаса, я успел составить о ней довольно верное понятие, с которым после согласилась и Б*. Оказалось, что тётушка на старости лет терпит недостаток во всём; ни состояния ни имеет, ни умом похвастать не может; опирается только на свою родословную и видит в генеалогии предков единственную свою защиту. Вся ее отрада теперь – с высоты своего чердака смотреть на головы простых смертных. В молодости она была хороша собой, но продурила жизнь. Сначала нескольких молодых людей помучила своими капризами, а в зрелых летах подчинилась какому-то отставному офицеру, которого содержала и с которым прожила свой медный век. Теперь, когда настал железный, она влачит жалкую жизнь в одиночестве, и если б не любезная племянница, никто бы не обратил и внимания на неё.
8 января 1772 года
Что это за люди, вся душа которых занята одним церемониалом, которые по целым дням хлопочут и добиваются только, как бы сесть повыше за столом? И не то, чтоб у них не было чем заняться; нет; работы накопляются потому именно, что из-за мелочей и Дрязг, дела посерьёзнее не двигаются с места. С неделю тому, на санном катанье вышел скандал, и весёлая затея обратилась в скучную нелепость.
Глупцам не в толк, что дело не в местах, и что занимающий первое место редко играет первую роль. Кто первый? Тот, полагаю, кто видит дальше и настолько хитёр и ловок, что употребляет на свои замыслы способности и слабости других.

20 января
С крестьянского постоялого двора, куда я укрылся от непогоды, пишу вам, любезная Лотта! С той норы, как судьба занесла меня в Д*, в это жалкое гнездо совершенно чуждых моему сердцу людей, с той поры даже побужденья не было у меня вам писать. Здесь же, в тесной лачуге, в уединении – здесь первая моя мысль была о тебе! Да, Лотта, живая память о тебе, образ твой – не успел я переступить порога – встретили меня здесь! То же чувство, о Боже, так тепло, так свято! Здесь. где мой окно занесено снегом, где метели, вьюга, непогода кругом – здесь опять первая, блаженная моя минута!
Если б вы меня видели, моя добрая, в городском омуте! Дух сякнет. Ни минуты полноты сердечной; ни часу отдыха обиженной душе; так пусто, пусто все! Стоишь как перед кунсткамерой; смотришь, как передвигаются куколки, и часто спрашиваешь себя: не оптический ли это обман? Попробуешь вмешаться в игру – глядь, тобой играют, как марионеткой. И задумаешься, и схватишь чью-нибудь руку; а рука-то деревянная – и ужас возьмет!
Иногда, с наступлением ночи, думаешь освежить себя восходом солнца; настанет день – на луну рассчитываешь. Нет тебе ни того, ни другого! И не знаешь, зачем встаёшь, зачем идёшь спать. Дрожжей, подымавших жизнь – их нет! Радости, что в ночи убаюкивала, что до зари на пир пробуждала – нет ее! Нет!
В целом городе встретил я только одно женственное женское существо – девицу Б*. Она походит на вас, милая Лотта, если можно походить на вас! «Э!» – скажете вы, «Господин-то на комплименты пустился!» И что же? В этом немножко и правды есть. С некоторых пор, я стал очень любезен – потому что нельзя же иначе – и острю, и женщины говорят: «Никто так тонко польстить не умеет!» И лгать так бессовестно, потому что здесь и без этого нельзя – понимаете? Я заговорил о девице Б*. У нее много души; об этом говорят ее голубые глаза. Ее светское положение ей в тягость: оно наперекор всем ее желаниям. Она рвётся из омута, и мы по целым часам фантазируем о чистых радостях сельской жизни и о вас, моя несравненная. Как часто бывает она вынуждена платить вам дань удивления! Нет, не вынуждена; она это делает добровольно, и всегда слушает с удовольствием, когда говорят о вас. Она любит вас искренно.
О, быть бы мне у ног ваших, а малюткам нашим – вокруг бы нас. Как они резвятся, милые! Зашумят ли очень – у меня сказка в запасе; такая страшная… И прижались ко мне, и притихли все.
Буря миновала и снежное поле блестит в лучах заходящего солнца. А я – я должен опять в свою трущобу? Прощайте! Альберт – у вас? И – как он? Да простит мне Господь этот вопрос!