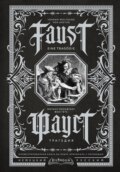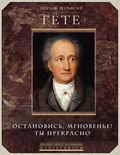Иоганн Вольфганг фон Гёте
Страдания юного Вертера
«Вот тебе, дружок, историйка, с тысячей тысяча первая. Не нашла натура выходу из лабиринта противоречивых и спутанных сил – и умирай человек! И разве это не та же болезнь? И горе тому, кто бы видел её и сказал: «Безумная, обождать бы ей; отлегло бы на сердце, нашелся бы достойнее!» Уж лучше этот умник скажи: «Осёл, умирает от горячки! Обождать бы ему – собрался бы с силами, кровь бы улеглась, и жил бы он и поднесь!»
Альберт и этого сравнения не принял. Он возразил: «Глупенькая девочка может разве служить примером? Речь о человеке разумном, и оправдывать его, обнимающего более обширный круг отношений – этого я решительно не понимаю».
«И не поймёшь, – отвечал я, – если не понимаешь, что капля данного нам рассудка – капля в море, когда бушует страсть и человеческая грань трещит. После когда-нибудь поговорим, – добавил я и взялся за шляпу. О, сердце моё было так полно! Мы расстались, не поняв друг друга. Как туго, подумаешь, вещи-то на этом свете понимаются. Не столкуешься с иным, хоть ты что!
15 августа
О, конечно, необходимость видеть человека всего сильнее вызывается любовью. Чувствую, что Лотте было бы тяжело потерять меня; а дети и думать не хотят, чтоб я не пришел завтра!
Я настроил утром фортепиано Лотты. После этого малютки стали просить меня рассказать им сказку. Мог ли я отказать, когда и Лотта пожелала, чтоб я исполнил их просьбу? Я нарезал им хлеба на ужин, который они теперь охотно принимают и от меня; потом рассказал им сказку «О принцессе, прислуживающей себе собственными руками». При этом я научился многому, уверяю тебя. Как это на них действует! Когда придётся изобрести что-нибудь, чтобы пополнить забытое, они тотчас говорят: «В последний раз это было не так!»
Теперь придерживаюсь в рассказе тоническому ритму – это много помогает; но хорошо только в сказке. Тут же убедился я, как много теряет поэт, исправляющий своё произведение, и хотя бы в пиитическом и риторическом отношениях оно стало от того вдвое лучше.
Первому порыву сочувствуют; а люди так созданы, что охотно верят и в чудеса. И горе тому, кто начнёт выцарапывать эти свежие зёрнышки, эти перлы своих первых впечатлений!
18 августа
Разве так суждено? Что составляет блаженство человека, то должно быть источником его бед?
Полнота пониманий, теплота чувств, любовь моя к природе – не в рай ли обращали всё окружавшее меня? И они же для меня теперь – безысходная пытка, неотлучный мучитель мой!
Смотришь ли, бывало, с утеса на тихую даль, по теченью ли реки следишь за ее извилинами, заливами – и на тучных пажитях, и на тощих ложбинах, всюду семена жизни, их всходы, листва, цвет, радость. Тёмным лесом оделась гора: у подошвы – кустарник, вверху – хвойная редь. На долинах, полянах, пестреющих рощами, тварью, жильём человека – игра солнца, бесчисленные переливы теней и голубая глубь небес, с их облаками, перелётною птицей, в озере ясном как день, и шелест его камышей, и клич отдалённый кого-то – всё так манило, ласкало глаз и слух. Вот алеет запад – и громче из тёмного бора бесчисленных пташек хорал! Назойливо жужжит комар свою вечную песню. В море цветов, в лучезарной дали, без устали стрекочет сверчок. Оглянешься – в багровом зареве тучи снующихся мошек в глаза. Долу – тоже снование, та же суетня: последняя букашка на вечерний бал ползёт. Схватишь клок мха, что ползком оспорил у скаредного гранита пищу; толкнёшься на песок, ступишь на известняк сухой – всюду поросли, побеги любви, верной, вечной, святой. И жадно читал я книгу природы, и как божеству раскрывался мне смысл ее таинственных слов, и явления бесконечной переполняли душу мою! Выше вставали горы, шире разверзались бездны, и лес, и дол, и поток звучали мне. И, внемля недрам земли, внимал я вечному обмену ее неисповедимых сил, непроследимой связи ее бесчисленных созданий. И вот, под облаками твой шалаш, человек! Безумец, я мнил, владычный надо всем, не оттого ли ты ничтожен, что сам так мало ценишь все? Не ведаешь, чьим духом ты согрет! То Вечного дух, и в знойных пустынях, где ничья нога не была, и в дальних морях, куда не залетала птица – вечно веющий дух! И часто, когда журавль высоко плыл по поднебесью, я стремился с ним к берегам океана, чтоб от края широкого, из кубка пенистого вкусить той вечно-жизненной браги, мой скудный сосуд согреть на мгновенье тою творческой силой, что из себя созидать собою всё!
Брат! Мне осталось одно воспоминанье о тех минутах, и только в них моё утешение. Самое усилие, возможность их вызвать, бедным словом дать понятие о них – вот отрада, вот крылья моей души, чтобы глубже было паденье, чтобы горше была чаша моя!
Упала завеса – и сцену вечноцветущей жизни сменила бездна вечно-раскрытого гроба. Скажешь ли: живёт! Когда всё ураганом несётся, дохнуть не успеет, как сгинуло на ледяных сугробах или в безднах морских! Мгновенья нет, когда бы ты себя и ближних твоих не губил, когда бы ты вынужден не был их губителем быть! Невиннейшая прогулка твоя – смерть тысячам червячков! Движенье ноги – и разрушено многотрудное здание муравья! И меня ли обманет предлог необходимости великой? Землетрясенье, ураган, наводнение – и ваши мирные сёла, ваши людные города в развалинах! Необходимость? О, в природе я не знаю ничего, чего бы сама же не губила она! Обижено, до глубины уязвлено моё сердце этой сокрытой в ней силой разрушенья. Оторопелому, мне и небо, и земля, и снующие, исконные их силы – ныне всепожирающее, свою вечную жвачку жующее чудовище!

21 августа
Напрасно я утром возношу к ней руки, напрасно ищу её возле в ночи! Проснусь ли от грёзы тяжелой, приснится ли мне сон блаженный, что мы сидим на пригорке, я в глаза ей смотрю и горячо, и долго ее руку целую – с полупросонья зову её! За подушку схвачусь с полупросонья из ущемлённого сердца слёзы; в глазах черная ночь, безнадежная будущность.
22 августа
Несчастье, Вильгельм! Мои деятельные силы расстроены; их сменило беспокойство, бездействие. Не могу оставаться праздным и ничего начать не могу. Воображение сякнет; нет любви к природе; книги противны мне. Когда нам себя недостаёт, нам всего недостаёт. Клянусь тебе, иной день пошел бы в подёнщики, чтоб желанье иметь, чтобы, когда проснёшься, иметь хотя какую-нибудь цель. Часто завидую Альберту, погруженному по уши в свои бумаги, и думаю иногда: и мне бы так! Мне даже несколько раз приходило на мысль писать к тебе и к министру о месте при посольстве, в котором, как вы уверяете, мне не будет отказано. И я так думаю. Он знает меня давно и сам не раз уговаривал посвятить себя постоянным занятиям. Иногда эта мысль с час времени занимает меня; но потом, когда пораздумаю и вспомню сказку о коне, что, наскучив свободой, дал себя оседлать и был до полусмерти заезжен, я не знаю, что делать? Милый мой, это желание перемены не есть ли сознание скрытого беспокойства, которое будет меня преследовать всюду? Полагаю, что так.
28 августа
Конечно, будь моя болезнь излечима, эти люди поставили бы меня на ноги. Сегодня день моего рождения. Ранёхонько получаю свёрток от Альберта, и первое, что мне бросилось в глаза с полупросонья светло-пунцовая лента, что была за платье Лотты, когда я познакомился с ней, лента, о которой я столько раз просил её. Кроме того, нахожу две книжечки iu duodez Гомера, Ветштейновы издания. Я давно собирался их купить, чтобы не тискать на прогулках Эрнестов экземпляр. Так-то они предупреждают все мои желанья; оказывают мне всевозможные знаки внимания, дружбы. Не в тысячу ли раз они дороже богатых подарков, унижающих нас в глазах тщеславного дарителя? Эту ленту целую тысячу раз, и каждый мой вздох Ветштейново издание намять того блаженства, тех многих, невозвратных дней. Я не ропщу. Цветы жизни, неправда ли, только призраки? Одни проходят без следа; не многие плод дают, а из этих дозревают многие ли? Но они есть и Ветштейново издание друг мой нам ли не дорожить ими? Прощай! Лето стоит чудесное. Я часто в огороде Лотты; взлезаю с шестом на деревья и сбиваю с верхушек плоды; она внизу Ветштейново издание и подбирает их.
30 августа
Несчастный! не слепец ли ты? Не обманываешь ли себя? Эта неистовая, безысходная страсть – к чему приведет она! Нет у меня других стремлений, как к ней; нет других представлений, как о ней, на всё в мире смотрю только по отношениям к ней. И на несколько часов я счастлив; но отторгнутый от моей грёзы, каким порывам, о Вильгельм, я снова отдаюсь! Когда же часа два с нею проведу, когда ее образ, движения, божественная простота ее речи и ублажают, и снова меня взволнуют – скажи, что тогда делать мне? Когда стемнеет в глазах, в ушах зашумит и будто кто-то за горло схватит, и неистово забьётся сердце, и мысли… и весь я, сдавленный, ищу простора – Вильгельм, я не знаю тогда, существую ли? И хорошо ещё, если горе возьмёт верх, и слёзы польются, и Лотта позволит мне, из состраданья, выплакаться на ее руке – на воздух, на воздух, бегу в поле… Круче будь утёс! непроходимый лес! Репейник, осока, хворостина – какое развлечение в язвах от вас! И, наконец, мне несколько легче… несколько! Жажда, усталость своё берут. Сажусь на корягу, на пень, чтоб дать отдых горящим пяткам. Ночь, безмолвие и глушь лесная, и одинокий, полный месяц в вышине! Изнеможенье – благодарю – помогает мне уснуть до зари. О, друг, шалаш, власяница, верига терновая были бы елеем моей уязвленной душе! Прощай! Один гроб успокоит меня.
3 сентября
Прочь отсюда, прочь! Вот уже две недели, как я борюсь с мыслью – оставить её. Благодарю тебя, Вильгельм, что установил мои колебания. Уеду! Она опять в городе у своей подруги, и Альберт… прочь отсюда, прочь!
10 сентября
Теперь, Вильгельм, перенесу всё. Вот была ночь! О, если б я мог припасть к тебе, высказать мои восторги, выплакать слёзы мои! Я более не увижу её. Теперь я готов; жду утра, алчу воздуха – и с восходом солнца кони у ворот.
Сон ее спокоен; она не знает, что больше не увидит меня! Я отторгнулся; я преодолел себя. В двухчасовой беседе я не изменил себе, ни слова о разлуке не сказал – и в какой беседе!
Утром Альберт обещал мне прийти с Лоттой, тотчас после ужина, в сад. В ожидании, я смотрел с террасы на закат солнца, которое ныне в последний раз озарило столь знакомую мне долину и речку. Часто любовался я этим зрелищем с Лоттой, отсюда же, из-под каштановых дерев. Я спустился с лестницы и прошелся несколько раз по аллее, которую полюбил ещё до знакомства с Лоттой. Наши симпатии к этому местечку встретились, когда я как-то пришел сюда сперва один, а потом вместе с нею. И конечно, это один из самых романических уголков, когда-либо созданных воображением влюблённого художника!
Широкая каштановая аллея открывает, в один конец, живописную местность; когда обратишься к другому – я уже, кажется, описывал тебе – она становится всё сумрачнее, потом ведёт на террасу и, суживаясь буковою изгородью, заканчивается сквозною беседкой. Вокруг нее – причудливая, густая листва образует круглую площадку, осенённую всеми чарами любви, всеми ужасами желанного уединения. Помню, когда я впервые пришел сюда, мне шепнуло что-то, какого блаженства, каких страданий будет свидетелем это очаровательное местечко.
Прошло с полчаса в мыслях о вечерних здесь прогулках, о первом трепете свиданья, о содроганьях разлуки, как Альберт и Лотта показались на лестнице. Я подбежал к ним и горячо поцеловал ее руку. Не успели мы взойти на террасу, как из-под верхушек пригорка, поросшего кустарником, выглянул месяц. В разговоре, мы неприметно дошли до конца аллеи. Лотта вошла в беседку и села на скамью; я и Альберт, один с одной, другой с другой стороны, сделали то же. Но мне не сиделось: я вставал, прохаживался и опять садился. Желание скрыть волнение только усиливало его. Она обратила наше внимание на лунный свет, озарявший в конце буковой аллеи всю террасу. Картина была тем разительнее, что нас окружала совершенная мгла. Мы молчали. Она первая нарушила молчание и сказала: «Память о наших усопших, мысль о смерти, о будущности – мои всегдашние спутники на всех прогулках при луне. Мы будем! – продолжала она с невыразимым чувством: – но скажите, Вертер, встретимся ли? Узнаем ли друг друга? Как думаете, как кажется вам, Вертер?»
«Лотта! – сказал я, протянув ей руку: – Мы увидимся! Здесь и там увидимся!» – Я не мог говорить. Друг! зачем был этот вопрос в минуту, когда разлука лежала камнем у меня на сердце?
«Милые тени! Знают ли они о нас? Сознают ли, когда мы счастливы, когда чтим память их, с любовью вспоминаем о них? Моей покойной матери образ, он всегда передо мной, когда я с детьми, с ее детьми, с моими детьми, и часто со слезою к небу моя просьба к ней, взглянуть и сказать: держу ли слово, данное в минуту ее смерти, матерью им быть! От глубины сердца тогда молю: тень дорогая, прости! Если я им не то, чем ты была! Делаю, что могу; они накормлены, одеты, и, что лучше, они презрены, любимы мной. Взгляни же на цвет твоих благословений и громко прославь Бога! Его же молила ты в смертный час о счастье твоих детей!»
Так говорила она. Друг, кто повторит сказанное? Холодное, бледное слово выразит ли небесный цвет ее души? Альберт кротко прервал её: «Это слишком действует на вас, любезная Лотта; прошу вас…»
«Альберт! – продолжала она: – вспомните только вечера, которые проводили вы с нами за маленьким круглым столом, когда отец, бывало, в отсутствии, а малюток мы спать уложим. Принесёшь и положишь на стол не одну книгу; а много ли было прочитано? Дивная женщина! Не заменяла ли она нам всё, всех – она одна? Прекрасная, кроткая, всегда благодушная, всегда деятельная. Счастливое время! И благодарность моя – о, Богу известны слёзы, которыми была мокра моя подушка. Он помнит одну молитву тогда: уподобь меня ей!»
«Лотта! – воскликнул я – и упал перед ней, и облил ее руку слезами: – душа твоей матери и благословение Бога всегда с тобой!» – «Да, если б вы знали, – сказала она: – эту прекрасную душу? Она стоила бы вас, она была бы достойна вашей дружбы!»
Я был вне себя. Никогда слово более гордое не раздавалось и не раздастся надо мной! Она продолжала:
«И эта дивная женщина должна была расстаться с нами в цвете лет, когда ее младшему было только полгода. Ея болезнь продолжалась недолго. Она была спокойна, покорна, и только участь детей тревожила её, в особенности малютки. Когда дело подошло к концу, и она пожелала видеть их, я привела к ней всех: и крошек, ничего не понимавших, и старших, обезумевших от горя. Когда они окружили постель, и она подняла над ними руки, помолилась, поцеловала каждого, и один за другим уходить стали, она сказала мне: «Будь матерью им!» – Я дала слово. – «Ты обещаешь много, дочь моя; ты обещаешь сердце матери, глаз матери. Благодарные слёзы твои порукой мне, что ты покидаешь, что говоришь. Завещаю тебе верность жены, сердце матери. Сохрани это для сестёр, для братьев, для отца – и ты утешишь его!» – Тут она спросила о нём. Его не было дома: он был от скорби вне себя и уходил беспрестанно из дому, щадя нас. Она понимала это, Альберт, ты был в комнате. Она заметила, подозвала тебя, посмотрела на меня, на тебя и одним взглядом – и утешенье, и надежду выразил тот взгляд – она как бы сказала, что вместе мы были бы счастливы. И, не дождавшись ее слов, ты упал к ней на грудь и сказал: «Мы вместе! Мы будем счастливы!» – Если Альберт, спокойный Альберт был тронут, могла ли я тут что понимать и помнить?»