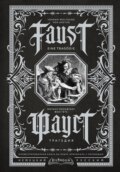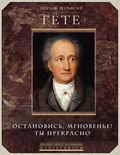Иоганн Вольфганг фон Гёте
Страдания юного Вертера
16 июня
Почем не пишу? – сам из ученых, а спрашиваешь? Тебе бы догадаться, что мне хорошо, что – коротко и ясно – я познакомился… я… я не знаю.
Рассказать тебе по порядку, как я встретился, как я познакомился с прелестнейшим из созданий, будет нелегко. Я доволен, я счастлив – и, стало быть, плохой историограф.
Ангел! Фи! – так называет каждый свою. Что она за совершенство, почему она совершенна – этого не умею объяснить: довольно, если скажу, что она овладела всеми силами моей души.
Столько простоты, при такой разумности! столько доброты при такой твердости! Живость, деятельность и, при этом, спокойствие прекрасной души!
Не верь, не верь этой болтовне, этим пустым отвлеченностям! Во всём этом нет ни одной верной черты. В другой раз – нет, не в другой, а теперь же, сейчас. Не расскажу теперь – не расскажу никогда, потому что – пожалуйста, между нами – с той минуты, как начал писать, я несколько раз бросал перо, готов был седлать лошадь и ехать к ней. Видишь ли, я ещё утром давал себе зарок не выезжать со двора, а вот то и дело подхожу к окну – взглянуть, как высоко солнце.
Нет, я не мог победить себя: я должен был уехать к ней! Вот я снова здесь. Съем чего-нибудь и напишу тебе. Покуда скажу тебе только: видеть, видеть надо её, старшую между восьмерыми братьями-сёстрами!
Однако, если буду так продолжать, ты под конец узнаешь столько же, сколько и сначала. Слушай же: я сумею принудить себя!
Я уже писал тебе, как познакомился я с советником С* и как обещал его навестить в его затворничестве или, вернее, в его маленьком королевстве. Потом я забыл об этом и быть может никогда бы не попал к нему, если б не случай.
Наша молодёжь, и я в том числе, затеяли сельский бал. Я предложил одной из здешних девиц – хорошенькой, но незначительной – быть ее кавалером. По условию, я должен был взять экипаж и с нею и ее тёткой заехать но дороге за Шарлоттою О*. Так это и было.
«Вы увидите прекрасную особу», – сказала моя молодая спутница, когда мы проехали лесные порубки и направились к охотничьему дому. «Берегитесь, – прибавила тётка, – не влюбитесь!» – «А если б и так?» – «Она уже почти помолвлена, – отвечала старуха, – отличного человека. Теперь он в отъезде для приведения дела в порядок по смерти отца». – Я принял это известие довольно равнодушно.
Солнце не скрылось ещё за вершинами гор, когда мы подъехали к воротам. Между тем воздух стал удушлив, и мои собеседницы начали не без основания опасаться грозы, которая обозначилась на горизонте маленькими беловато-серыми тучками. Я старался рассеять их опасения, хотя и мне сдавалось, что прогулка наша не обойдётся даром.
Я вышел из кареты. В воротах показалась горничная с просьбой к дамам – обождать минутку: «Мамзель Лоттхен выйдут сейчас!». Я прошел через двор в красиво-выстроенный домик – и когда взошел на лестницу и растворил двери, меня встретила мило виднейшая сцена изо всех, когда-либо иною виденных: в передней зале толпилось шестеро детей, от одиннадцати до двух лет, вокруг взрослой девушки среднего роста прекрасной наружности. На ней было белое платье со светло-пунцовыми бантами на рукавах и на груди; она держала в руках ситный хлеб, резала его ломтями и наделяла ими детей, смотря по их возрасту. Она это делала с таким приветливым радушием, дети так непринуждённо говорили по очереди своё «благодарствуй», что я как будто еще вижу их протянутые к ней ручонки, вижу, как одни тихо и спокойно, другие бойко и в один прыжок, смотря по характеру, отходили в сторону или выбегали на двор взглянуть на карету, которая должна была увезти их Лотту. «Прошу извинить меня», – сказала она. – «Что затруднила вас и заставила дам ждать. С одеванием и кое-какими распоряжениями я опоздала накормить детей ужином, а они так привыкли, чтоб это делала я, что не возьмут хлеба ни от кого другого».
Я отвечал обыкновенным приветствием. Ее стан, ее тон, ее манеры поглотили всё моё внимание, и я успел опомниться только тогда, как она порхнула в соседнюю комнату, чтоб захватить перчатки и веер.
Между тем малютки посматривали на меня в некотором отдалении, и не успел я подойти к самому младенцу – миловидный малютка попятился – как Шарлотта вошла и сказала: «Люи, дай же дядюшке ручку!» Ребёнок тотчас послушался, и я, не смотря на его сонливый носик, поднял и поцеловал его.
«Дядюшка? – сказал я, предлагая ей руку, – вы полагаете, что я заслуживаю счастья быть с вами в родстве?» – «О», – отвечала она с лёгкой улыбкой: – «Наше общее родство так многочисленно, что, право, было бы жаль, если б вы были последний из множества».
Проходя двором, она поручила Софье, старшей после нее девочке лет одиннадцати, смотреть за детьми и поклониться отцу, когда он вернётся с прогулки. Обратясь к малюткам, она сказала, чтоб они были послушны Софье, как бы ей самой. Дети почти в один голос отвечали: «Будем!» и только одна белобрысенькая вострушка, лет шести, проворчала сквозь слёзы: «Да всё же, Лотточка, это будешь не ты: сама знаешь!»
Двое старших братьев вскарабкались на козлы, и Шарлотта позволила им, по моей просьбе, доехать до порубков, но с тем, чтобы друг друга не дразнить и держаться крепче.
Едва успели дамы поздороваться и поменяться замечаниями насчёт своих туалетов, в особенности шляпок, да пустить в ожидавшее нас общество несколько шпилек, как Шарлотта приказала кучеру остановиться и выпустить братьев. Оба подбежали к ней поцеловать ее руку: старший, лет пятнадцати, сделал это почтительно, даже с нежностью; младший, как и следовало ожидать – кое-как. Она ещё раз поручила им поклониться детям – и мы отправились.
Тётка спросила Шарлотту: прочла ли она посланную ей книгу? «Нет», – отвечала она: – «Эта книга мне не нравится; можете её обратно получить; да и прежние были не лучше». Я удивился, когда она сделала несколько замечаний, и когда я узнал, какие это книги. Сколько характера было во всём, что говорила она! Каждое слово имело свою прелесть! То были перлы одушевления, ума, отражавшегося в чертах ее лица, по мере того, как она сознавала, что я понимаю ее.
«Когда я была по моложе, я очень любила романы, и Бог весть как я была счастлива, когда по воскресеньям, бывало, усядусь в уголок и начну делиться участью с какой-нибудь мисс Дженни. Не скрою, что и теперь такие книги имеют некоторую прелесть для меня. Но время мне дорого, а потому надо, чтобы книга была мне совершенно по вкусу – и автор, в котором нахожу свой мир, который мыслит по сердцу мне, в книге которого читаю как в собственной жизни – тот автор мне дороже других, потому что хотя жизнь моя и не рай, а все же она для меня источник радостей невыразимых».
Не без труда скрыл я чувство, вызванное во мне последними словами; но это продолжалось не долго. Когда она, мимоходом, сделала несколько метких замечаний на «Вексфильдского священника», Н * и на другие книги, я заговорил с жаром и увлёкся до того, что совершенно забыл о наших спутницах. К сожалению, тут только я заметил, что они остались не причём, как бы их вовсе не было; тётка даже несколько раз иронически улыбнулась; но особенного внимания я на это не обратил.
Речь зашла о развлечениях, о танцах. «Если танцы грех», – сказала Лотта: – «Я должна буду сознаться, что очень грешна. Если я не в духе, мне стоит только сесть за фортепиано, да пробренчать какой-нибудь контрданс – и всё пройдёт!»
Как упивался я во время разговора выражением ее черных глаз! как любовался я свежими щёчками, оживлённым алым ротиком! Весь погруженный в смысл ее речи, я не слушал даже слов, которыми выражалась она. Ты это поймёшь, потому что знаешь меня. Словом, когда мы остановились у подъезда, я вышел из кареты как шальной; не замечая, что делается вокруг меня, я не обратил бы даже внимания на музыку, гремевшую из окон освещённой залы – не сделай этого другие.
Два Одрана и некто N. N. – кто запомнит эти имена? – кавалеры Лотты и тётки моей дамы, встретили нас у самой кареты. Они взяли под руку своих дам; я повёл свою.
Мы начали, как водится, с менуэтов. Я переходил от одной дамы к другой, и от самых невзрачных, от них-то именно и нельзя было добиться руки, чтобы положить конец скучному танцу. Лотта и ее кавалер решились первые начать англез – и как я обрадовался, когда очередь дошла до меня, можешь себе представить!
Надо видеть её в танцах: она тут вся, и душой и телом! Так свободна, беспечна, гармонична, как будто она ни о чём больше не думает, ничего больше не ведает, и я уверен, что в это время перед ней исчезает всё.
Я просил её на второй контрданс; она могла согласиться только на третий, и при этом простодушно призналась мне, что в танцах ценит вальс выше всего. «Здесь такой обычай», – сказала она: – «Что в котильоне каждый кавалер танцует с той дамой, с которой приехал; мой chapeau вальсирует плохо и будет очень рад, если я избавлю его от труда; ваша дама ему под пару, да и не любит вальса, а вы, как я заметила в англезе, вальсируете хорошо. И так, если желаете, чтоб я была ваша в котильоне, переговорите с моим кавалером. а я к вашей даме пойду». Я, разумеется, согласился; дело уладилось, и кавалеру Лотты оставалось только суметь занять мою спутницу.
Мы пустились. Как грациозно, как легко танцует она! Когда дело дошло до вальса, и пары словно сферы закружились, вам на первых порах было неловко: ведь мастерство большей части танцующих проявляется тут не проворством, а толчками. Мы были себе на уме, обождали несколько, и когда наименее уклюжие пары очистили сцену, мы снова пустились, и с другой парой – то был Одран С* – дело своё смастерили отлично; я был в ударе и, казалось, стал иным существом. Обнимать прелестнейшее создание и кружиться с ним как вихрь, когда всё вихрем и кругом идёт – знаешь, что я тебе скажу? – в это время я дал себе клятву, что той девушке, которую буду любить, к которой буду иметь какие-нибудь притязания, той девушке – и умри я на месте! – не позволю вальсировать ни с кем. Ты понимаешь меня?
Надо было прохладиться. Мы прошлись несколько раз в смежной зале. Лотта присела и отложенные в сторону апельсины пришлись теперь кстати; жаль только, что ее нескромная соседка воспользовалась тем, что из рук Лотты было бы по сердцу и мне.
В третьем экосезе составляли мы вторую пару. И вот, в то время мы как переплетаемся в ряду танцующих, в то время, как я Бог весть с каким восторгом упиваюсь глазами Лотты, полными самого чистого, самого невинного удовольствия, одна не молодая уже, но приятной наружности дама бросается мне в глаза. При встрече с Лоттой, она два раза улыбнулась, два раза подымает указательный палец, грозит и произносит имя: Альберт!
«Кто это, если смею спросить, кто это Альберт?» Лотта уже готова была ответить, как мы должны были расстаться, чтобы составить большую фигуру, и всякий раз, как мы тут сходились, я замечал на ее лице раздумье, которого не была перед тем и следа.
«Что скрывать?» – сказала она, подавая мне руку на полонез: «Альберт прекрасный человек, с которым я почти что обручена». Это не было новостью для меня; спутницы говорили уже об этом дорогой и, не смотря на то, известие показалось мне совершенно новым, потому что относилось к особе, которая между тем стала мне дорога. Словом, я задумался, знал в рассеянность и очутился не в своей паре; это спутало других и произвело такой беспорядок, что нужно было всё досужество, нужна была вся ловкость Лотты, чтобы привести опять всё в порядок.
Далеко ещё было до конца танцев, как молнии, которые выдавал я за зарницу, участились до-того, что громовые удары заглушили наконец оркестр. Три дамы вышли из ряда танцующих; за ними последовали их кавалеры; беспорядок сделался общим – и музыка умолкла.
Несчастье, испуг в минуту общего веселья действуют сильнее обыкновенного, и это не столько в силу контраста, сколько потому, что чувственность наша становится в такие минуты восприимчивее и, стало быть, способнее на сильные потрясения. Этим только и могу объяснить себе порывистые движения, забавные сцены, ужимки, гримасы, дававшие тут обильную пищу для наблюдений. Дамы и девицы посмелее садились спиною к окну и зажимали уши; другие, на коленах перед ними, прятали лица в складках их платья; третьи, заливаясь слезами, обнимали своих бедных сестриц; одни спешили домой, другие, наиболее испуганные, растерянные, прятались по уголкам, давая нашей не очень-то целомудренной молодёжи удобный случай для поживы. Непрошеные утешенья оплачивались тут в три дорога и часто ценою к небу обращённых, но до него не доходивших восклицаний. Живые, алые губки кающихся грешниц так обольстительны! лепет их тёплых молитв так обаятелен!
Люди постарше, охотники покурить, спустились в подвал и за трубочкой всё забыли. Между тем заботливая хозяйка очистила особую комнату с закрытыми ставнями и опущенными шторами. Остававшееся общество не замедлило этим воспользоваться, и едва мы вошли туда, какъ счастливая мысль Лотты – заняться фантами – была тотчас же пущена в ход. Живо разместила она стулья в кружок и взялась, к общему удовольствию, быть распорядительницей.
Я заметил, что у многих, в надежде на лакомый фант, слюнки текут. «Мы играем в счёт», – сказала она: – «Теперь слушайте: я пойду кругом, справа налево, считая – раз, два и так далее: вместе со мной каждый по порядку будет называть очередное число. Кто запнётся или ошибётся – получает шлепка. И так до тысячи».
Надо было видеть! Подняв руку, она начала обходить круг. «Раз!» – начал первый. «Два!» – продолжал второй, и так далее. Она ускорила шаг – и ещё, и ещё. Вот кто-то зазевался – бац! Раздался хохот, а из-под него и второму – тоже! И чем скорей она шла, тем больше сыпалось пощёчин; я сам получил две, и мне даже показалось, что они были тяжелее других. Всеобщий хохот и гвалт положили конец шутке, прежде чем Лотта дочла до тысячи. Повеселевшее общество разбрелось; гроза между тем миновала.
Я вышел с Лоттой в боковую залу. На ходу она сказала мне: «За шлепками, они и непогоду, и всё забыли». – Я не мог отвечать. – «Вот и я была из трусих», – прибавила она: – «А решилась похрабриться – и куда страх девался!»
Мы подошли к открытому окну. Громовые раскаты глухо раздавались ещё в стороне; обильный грибной дождь, пробивая землю, шумел, звучал о траву, и благоухание в теплоте свежего воздуха обдавало нас. Она оперлась правым локтем на левую руку и устремила взор в пространство; потом подняла глаза к небу, опустила их затем на меня и прослезилась. Тут, как бы бессознательно, коснулась она правой рукой моего плеча и произнесла: «Клопшток!» Мгновенно вспомнил я чудную оду и, полный ощущений, пробужденных ее намёком, не выдержал, наклонился, поцеловал ее руку и снова утонул взглядом в ее черных глазах! Поэт «Мессиады» – видеть бы тебе в них отражение своего божества, и не услышать бы мне более о развенчанном имени твоём, благородный!