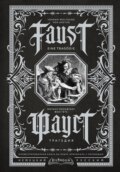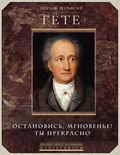Иоганн Вольфганг фон Гёте
Страдания юного Вертера
5 сентября
Я был у Лотты. Муж ее в деревне. Она написала к нему письмецо, которое начиналось так: «Добрейший, любезнейший, приезжай скорей! Ожидаю тебя с нетерпением». Между тем, один из друзей дома пришел сказать, что дела задержат Альберта ещё на несколько дней. Записка оставалась раскрытою на столе и вечером попалась мне в руки. Я прочёл и рассмеялся. «Чему?» – спросила она. – «Что за чудный дар воображенье», – отвечал я. – «Представьте, мне показалось, что эта записка ко мне». Моя выходка ей не понравилась. Она отвернулась, и я замолчал.
6 сентября
Мне трудно было расстаться с моим старым, синим фраком. Он был на мне, когда я познакомился с Лоттой, когда я с ней танцевал; но он прослужил свой срок, и я заказал себе точно такой же, с таким же воротником и с такими же отворотами, а к нему такие же панталоны и точно такой же желтый жилет. Тем не менее, того эффекта новый фрак не производит. Не знаю; думаю, однако, что и этот со временем станет мне дорог.
12 сентября
Она была несколько дней в отсутствии и возвратилась с Альбертом. Сегодня, когда я вошел в ее комнату, она меня встретила – и я горячо поцеловал ее руку.
С зеркала слетела к ней на плечо канарейка. «Рекомендую нового друга», – сказала она – и переманила птичку на кисть руки. – «Посмотрите, какая она приветливая, ласковая! Да взгляните же на неё! Когда я кормлю её, она машет крылышками и клюёт так мило. Она и целует меня. Посмотрите!»
Когда она поднесла её ко рту, птичка так прильнула к ее алым губкам, как бы сознавала блаженство, которым дышали они!
«Она и вас должна поцеловать!» – сказала она, протянув руку к моему рту. Птичка описала полукруг – и нежное, повторённое прикосновение ее клювика было тонко, обаятельно, как предвкушение, как чаяние блаженной любви.
«Е поцелуй, – сказал я: – не вовсе бескорыстен. Она ждёт пищи и, недовольная пустой лаской, смотрите, отворачивается».
«Она и кушает у меня изо рта», – сказала Лотта, взяв несколько конопляных семечек в рот и поднося к нему птичку с живой улыбкой, с выражением чистейшей любви.
Я отвернулся. Она не должна была, ей не следовало пробуждать мою впечатлительность этими картинками детской радости и невинного счастья. Мое усталое сердце засыпает иногда в равнодушии к жизни; но чуток и краток его сон… А впрочем, почему ж и не так? Она вполне доверяет мне; она знает, как я её люблю!

15 сентября
Можно с ума сойти, Вильгельм, от одной мысли, что есть люди, у которых и капли-то чувства нет к тому, что ещё имеет какую-нибудь цену на земле!
Я писал тебе об орешниках, под которыми мы сидели с Лоттой, когда навещали почтенного проповедника в местечке С. Чудные орешники! Бог свидетель, как отрадна была их тень; как широко, величественно были раскинуты их сучья; как мил, уютен был пасторский дворик в их прохладной тени! Самая память о почтенном старце, который их сажал, какую она прелесть придавала им! Да, здешний школьный учитель иначе не говорит о нём, как с чувством глубокого благочестия. Поверишь ли, даже у учителя выступили слезы на глазах, когда он сказал мне, что орешники срублены. Срублены! Сума бы сойти, убить бы собаку, что занесла им первый удар! Каково же было мне это слышать, мне, который плакать мотов, когда на ином дворе в двух деревьев одно засохнет?
Но и тут, порадуйся дружок, чувство-то человеческое ведь заговорило, отстояло: понимаешь – ведь одно-то деревцо уцелело!
Постойте, госпожа-пасторша, остальные вам отзовутся на масле и яйцах и на прочем ином, когда подойдёт дело к праздникам. Да, это она, жена нового пастора (наши старики умерли), сухопарое существо, имеющее причину ничего не любить, потому что её не терпит никто – это она порубила мои деревья. Вся деревня ворчит. Она нанесла кровную обиду всем. Дура! Воображает, что она ученая: объясняет каноны, кормить над морально-критической реформацией христианства, и туда же пожимает плечами, когда говорят о Лафатере; кашляет сухим кашлем, и оттого в целом божьем мире ни в ком неймёт радости. Да, только такой креатуре и можно было срубать мои орешники! Видишь ли, я как-то не приду ещё в себя. Представь: желтый лист засоряет ей двор, портит воздух, листья отнимают свет, а когда поспеют орехи, мальчишки сбивают их каменьями! Это, изволишь видеть, действует на ее нервы; мешает ее комбинациям над бреднями Земмлера, Михаэлиса и Кенникота. Каково?
Когда я спросил деревенских мужичков постарше, зачем они допустили это? «Что же нам было делать, – отвечали они: – когда и староста с пастором заодно? Теперь не в барышах они – и поделом! Когда общинное правление осведомилось об этом казусе, оно сказало: сюда пожалуйте! Правленье то, видите, имело на двор ещё старую претензию, которую держало под сукном; а тут она и вышла на свет, деревья-то и продали с молотка. Теперь и староста с носом остался, да и пастор тоже, которому и без того худо спится – знать, жену часто видит во сне!»
Эх, если б я был владетельный князь, я бы и пасторшу, и старосту, да и правленье-то… Владетельный? И то сказать, думал бы я разве тогда о деревьях страны?
10 октября
Взгляну на ее черные глаза – и мне легче! Послушай, меня огорчает мысль, что Альберт кажется не так счастлив, как надеялся… как я бы был, если бы… Не люблю точек, но здесь не могу обойтись без них, И мне кажется оно и коротко, и ясно.
12 октября
Оссиан оспорил в моём сердце Гомера. Чуден, величествен мир северного барда! Порывистый ветер обуревает скалу пустынную. При трепетном свете луны, в ризах тумана, встают тени почивших; в сумраке ущелий носятся души на заре убиенных; с завыванием бури, с ревом лесных потоков сливаются их вопли, из мглы трущоб, из мрачных пещер. Буря, вопли, потоки – не заглушат они нежной жалобы, излияний скорбящей любви; не заглушат тихого плача девы, над свежей могилой со славою падшего! Четыре мхом поросшие камня над ней. Маститый воин-певец, величавый Фингала сын, он на поисках следов отцовских! Забытые их гробницы на той скале – и он находит их. Вдохновенный, скорбный, он обратил очи к вечерней звезде: она закатилась, тонет в волнах. Минувшее оживает в душе героя. При полном сиянии луны, при радостных кликах победы, несутся к родным берегам пурпуром венчанные корабли отцов… Воспоминанье мгновенное! И снова глубокая скорбь на челе его, последнего из славного сонмы героев старины. О, как упорна борьба времени с его могучим, медленно-угасающим духом. Но и близкий к своему концу, странствующий величавый бард – что за дивные звуки он льёт из вымирающего сердца? Зане тени великих предков одушевляют его! Изнемогая, он припал к порываемой ветром траве, к холодной земле и шепчет ей: «Завтра придёт, странник. Он знал меня в цвете, весной моей жизни. Он спросит: где певец Оссиан? Где Фингала сын? Не ответишь, зелёная, не отзовёшься, холодная – и его пята пройдёт по могиле моей…»
О, друг! Где оруженосец? Меч наголо! Дай пожертвую собой за угасающего полубога! Пылом юного сердца его обновлю и вслед возрождённому, дай, пошлю спутницей душу мою!
19 октября
Ах, этот пробел, эта ужасная пустота в душе! Я часто думаю, если б хоть раз, один только раз прижать её к этому сердцу, пробел бы пополнился, залегло бы блаженство в груди.
26 октября
Да, с каждым днём убеждаюсь я твёрже и твёрже, что более ли, менее ли на земле одним существом, право, всё равно.
К Лотте пришла подруга. Я вышел в другую комнату; развернул книгу; но не мог читать – и вот пишу к тебе.
Они тихо разговаривают, рассказывают городские новости: та замуж выходит; другая больна, очень больна; у третьей кашель сухой, осунулось лицо, беспрестанные обмороки. Гроша не дам за ее жизнь. N N также болен – весь распух. И между тем как барыньки мои говорят о больных, как о первом встречном, моё несчастное воображение переносит, сажает меня к их изголовью. О, как они отворачиваются от смерти! Как они… И я обернулся: там платья Лотты, тут письмена Альберта, и эта мебель, и эта чернильница… Смотрю и думаю: видишь ли, как ты сроднился, чем ты стал для друзей. Ты им достоинства образец; ты часто их душа и радость; то же они и твоему сердцу. А случись, что уйдешь, что навсегда их оставишь – долго ли они, надолго ли они будут помнить о тебе?
О, как мимолётен человек! Даже там, где отсутствие его незаметный пробел в судьбе других, где он так много значит – и там-то он, и ещё как скоро, исчезает из их памяти!
27 октября
Право, иной раз распорол бы себе грудь или размозжил бы себе череп при мысли, что люди могут так мало любить один другого, так мало сочувствовать друг другу. Ах, этой любви, радости, теплоты сердечной не даст никто, если нет их в самом тебе; и бей сердце блаженством через край, им не согреешь того, кто, как холодная глыба, не даст от себя и ростка.
27 октября, вечером
Я взыскан столь многим, а моё чувство к ней поглощает всё. Я владею столь многим, а без неё – всё ничто.
30 октября
Сто раз уже покушался я упасть ей на грудь! Один Бог ведает, во что обходятся мне искушения перед лицом любезнейшего из созданий. Видеть – и тронуть не сметь; а побуждение тронуть, схватить – так естественно, так человечно. Дети, верные своей природе, не хватаются ли за всё, что приглянется им? А я?!
3 ноября
Бог свидетель, я ложусь спать часто с желанием, даже с надеждой не встать вовсе. Утром раскрою глаза, взгляну на солнце – и горе мне! О если бы причуда, охота к чему-нибудь овладела мной, если б я мог на неудачу, на третье лице сложить причину моего недовольства, оно бы меньше тяготело на мне. На беду, я сам причиной всему; во мне одном начало вины – нет, не вины! Довольно, если скажу, что во мне источник моих бед, как некогда он мне был источником радостей. Не тот же ли я, который – давно ли? – всюду приносил с собою свой рай, которого сердце обнимало весь мир? Оно обнищало, не бьётся восторгами; сухи глаза и мысли, давно не орошенные слезами, провели уже морщину на лбу. Я лишился лучшего сокровища в жизни – силы творческой, силы святой. Отлетели чары фантазии – и моим страданиям исхода нет.
Подойдёшь к окну: напрасно борется туман с лучами молодого утра; оно встаёт над утёсами и, лучезарное, золотит поблёклую ниву. Напрасно обезлиственные ивы наклонились над рекой; она сквозит меж них, блещет, вьётся и ластится. О, что же во мне, если и эта всегда дивная природа, как размалёванный поднос передо мной! Если ее чудеса не могут и капли-то прежней радости накачать из этого сердца в эту башку, и весь он, ещё ражий с виду детина, перед лицом Бога, как рассохшееся ведро, как пустой ковш! О, я не раз припадал к нему, не раз уже молил о слезах, как молит пахарь о дожде, когда небо лежит раскалённым сводом, а земля как порох под пятой! Увы, Бог посылает ненастье и ведра не мольбам неистовым, и времена, о которых одно воспоминание меня мучает теперь, не потому ли составляли моё блаженство, что я тогда с тихим трепетом ждал Его благодати и от глубины чистого, благодарного сердца шел на встречу ей?