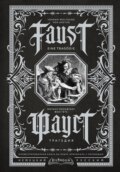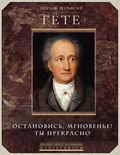Иоганн Вольфганг фон Гёте
Страдания юного Вертера
6 декабря
Этот образ – как он преследует меня! Здесь, если раскрою веки, здесь, подо лбом, где орган зрения сосредоточен, здесь блещут эти черные глаза! Да, именно здесь! Закрою ли веки – они там, они тут, они бездной зияют передо мною, во мне! Страждет мозг.
Человек, прославленный полубог, где же твои силы? Теперь, когда нужны они, где твоя опора? Вознесёшься ли на крыльях радости, падёшь ли ниц в страданиях – и там, и тут встретят тебя не просторы Бесконечного, а тупая, холодная стена самосознанья!

От автора
К сожалению, о последних знаменательных днях нашего друга осталось немного его собственноручных свидетельств, и я нахожусь вынужденным пополнить своим рассказом этот пробел его печальной истории.
Она проста, и изустные о ней известия согласны почти во всем; различествуют только показания и мнения о характере окружавших Вертера лиц.
И так, на мою долю выпал небольшой труд – рассказать слышанное и включить в мой рассказ оставшиеся после него письма.
Если согласимся в трудности определения настоящих, первоначальных причин всякого знаменательного человеческого поступка, то поймём и побуждения, заставившие меня сохранить сберечь до малейшего лоскута все, относящееся к событиям с человеком, выходившим из ряда людей обыкновенных.
Тоска и равнодушие к жизни всё глубже и глубже укоренялись в душе Вертера и наконец овладели ею совершенно. Гармония его духа расстроилась. Внутренний жар и раздражительность, возбуждая беспрерывно его мятежные силы, действовали на них гибельно; а желание превозмочь свои страдания ускоряло только их упадок. Душевное беспокойство поражало его способности и действовало с каждым днём разрушительнее на его живость, на его остроумие. Он сделался скучным собеседником и, по мере упадка духа, становился всё более и более несправедливым к другим.
Так говорят, по крайней мере, друзья Альберта. Они утверждают, что Вертер не умел тогда ценить этого безукоризненного человека, даже не признавал его естественных желаний – сохранить за собою счастье, к которому стремился давно и которого заслуживал вполне; что, стало быть, Вертер смотрел с ложной точки на его наружное, как бы ничем невозмутимое спокойствие, тогда как сам походил на человека, днём расточающего всё, что имеет и нарабатывает, чтобы с наступлением ночи снова бороться с нищетой.
Альберт, говорили они, оставался всё тем же к нему, да и не мог измениться в такое короткое время; словом, не переставал, как и с самого начала, любить и уважать его. Свою жену любил он выше всего; он гордился ею и желал, чтоб и другие признавали в ней то же прекрасное создание, каким она являлась ему. Можно ли было сетовать на него, если он отклонял от себя самую тень подозрений или если он был неравнодушен к мысли – поделиться с кем бы то ни было обладанием своего сокровища, будь такой подел самого невинного свойства? Они соглашаются, что Альберт часто оставлял комнату жены, когда у неё бывал Вертер; но что он делал это не из ненависти или отвращения к нему, а потому, что сознавал свое присутствие тягостным для искренно любимого им страдальца.
Отец Лотты захворал и не оставлял комнаты. Он выслал за ней экипаж, и она отправилась к нему. Снег, покрывавший всю окрестность, только что выпал. Молодая зима блистала в лучах молодого утра.
На другой день Вертер отправился также к старику, чтобы проводить Лотту домой, если Альберта задержат дела.
Ясная погода подействовала мало на его мрачное расположение духа. Впечатления, одно другого темнее, сменялись в его душе и ложились на неё тяжелым гнётом.
В разладе с собой, он предполагал неурядицу и в быту окружавших его лиц привыкал к мысли, что положение и других не лучше. С этой-то мрачной стороны представлялись ему и отношения Альберта к жене. Обвиняя себя в нарушении доброго между ними согласия, он осыпал себя укоризнами, к которым примешивалось и скрытое нерасположение к другу.
Дорогой эта мысль разыгралась в нём. «Да, да, – говорил он себе с глухим скрежетом: – вот она, эта доверчивая, нежная, продолжительная верность! Это пресыщение, равнодушие – не больше! Нет такого грошового дела, которое не занимало бы его больше, чем это сокровище, эта чудная жена! Ценит ли он своё счастье? уважает ли он её так, как она того заслуживает? Он обладает ею – прекрасно. Обладает! Знаю это, как смекаю и кое о чём другом. Я привык к этой мысли; но, чего доброго, он меня ещё с ума сведет, и самая его дружба ко мне – разве она выдержала испытание? Разве не смотрит он на мою привязанность к Лотте, как на нарушение своих прав, на моё внимание к ней, как на упрёк ему? Знаю, чувствую, что моё присутствие ему неприятно, что я становлюсь тяжел ему, что он желал бы удалить меня!»
Он то ускорял шаг, то останавливался; порывался вернуться домой. Шел однако всё далее, покуда в этих мыслях, в этой борьбе с собой, не пришел к охотничьему домику.
Когда он вошел в двери и спросил о старике, весь дом был в движении. Старший брат Лотты, любимец его, объявил ему при встрече, что в Вальгейме случились несчастье, что там нашли мёртвое тело. Сначала он принял это известие довольно равнодушно.
Когда он вошел в кабинет старика, Лотта уговаривала отца поберечь себя, не выходить из дому; он же хотел непременно сам исследовать дело и на месте, собственными глазами увериться в показаниях. Подозрения и улики были довольно сильные; но убийца оставался ещё неизвестен. Убитый найден был на пороге дома вдовы, которая незадолго перед тем отказала, по неудовольствию, служившему ей батраку.
«Возможно ли?» – вскричал Вертер, услышав это. «Сейчас же иду туда; я должен идти!» Он поспешил в Вальгейм и, сообразив дорогой все обстоятельства, не усомнился ни на минуту, что убийство было делом того человека, который не раз ему жаловался на своё несчастье и в котором он принял такое участье.
Проходя мимо знакомых ему лип, он содрогнулся. При входе в гостиницу, лежало мёртвое тело, вокруг которого толпился народ. Площадка перед церковью, место детских игр и его отдыха, была залита кровью. Любовь и верность, лучшие заветы человеческому сердцу, обращены в насилие и убийство. Обезлиственные, коренастые деревья, ещё недавно кудрявые кустарники, торчали скелетами из-за церковной ограды, и сквозь ее решетку мелькали одетые снегом могильные камни.
Не успел он подойти к толпе, как из нее раздался крик: «Убийца! убийца!» На дороге показались вооруженные всадники. Вертер взглянул и опустил голову. Да, это был тот влюблённый парень, которого тихая печаль и кроткая робость были еще так живы перед ним.
«Что ты сделал, несчастный!» – вскричал он, поспешно подойдя к арестанту. Тот спокойно на него взглянул и, помолчав немного, отвечал столь же спокойно: «Никто ей не достанется; она не достанется никому!» Арестанта ввели в гостиницу. Вертер бросился на дорогу.
Весь его организм был потрясён. Впечатление было слишком сильно; оно возмутило, привело в брожение все таившиеся в нем ощущения. Его скорбь, недовольство судьбой, равнодушие к жизни внезапно уступили восторженному желанию. Им овладело невыразимое сочувствие к несчастному, неодолимое стремление – спасти его. Бедствие собрата казалось ему столь великим, причины подходили так близко к собственному его положению, что он готов был извинить самое преступление. Он совершенно вошел в душу того, которого судьбу принял так горячо к сердцу; ему даже казалось, что и другие разделят его сочувствие. Живая речь и живое за несчастного слово роились уже на языке его, и, спеша к охотничьему дому, он вполголоса повторяет дорогой то, что через несколько минут поставит его адвокатом перед его почтенным другом.
У старика был Альберт, когда Вертер снова вошел к нему. Это несколько озадачило его; но он скоро ободрился и заговорил с жаром в пользу преступника. Старик покачал головой и, не смотря на живость, страстность и некоторые убедительные доводы защиты, не согласился с Вертером. Он не дал ему договорить, стал противоречить и даже упрекнул его в том, что он берёт сторону убийцы. Сказал, что при таком образе действий всякое уважение к закону будет поколеблено, а с тем вместе потрясена и государственная безопасность. К этому он прибавил, что навлёк бы на себя большую ответственность, если б уступил его просьбам, и заключил тем, что дело будет поведено законным порядком.
Вертер не сдавался. Он сталь убеждать, просить старика посмотреть по крайней мере сквозь пальцы, если арестанту дана будет возможность бежать. Но и на это последовал отказ. Тут вмешался в разговор и Альберт, принявший, разумеется, сторону советника. Вертер был заглушен, и после того, как старик повторил несколько раз: «Нет, его нельзя спасти!» – друг наш с горечью в сердце выбежал на улицу.
Какое впечатление произвели на него эти слова, об этом свидетельствует заметка, найденная в его бумагах и написанная вероятно в тот же день.
«Тебя нельзя спасти, несчастный! Да, нам с тобой спасенья нет!»
О словах Альберта, высказанных в присутствии советника, Вертер вспоминал с отвращением. Он видел в них даже намёк на свои отношения к Лотте, и хотя ему шептал его светлый ум, что тот и другой были в сущности правы – согласиться с ними, отказаться от своего страстного желания, казалось ему, значило бы то же, что отказаться от мысли задушевной – от самого себя.
Следующая записочка, найденная также между его бумагами, подтверждает этот взгляд на тогдашние его отношения к Альберту:
«Напрасно твержу себе по нескольку раз в день: он честен и добр! Он попирает всё моё задушевное, и я не могу быть справедлив к нему!»
К вечеру наступила оттепель. Альберт и Лотта отправились обратно пешком.
Дорогой она часто оглядывалась, посматривала в сторону, как бы искала чего-то. Ясно было, что её беспокоило отсутствие Вертера, их всегдашнего спутника. Альберт завёл о нём речь, причём отдавал ему справедливость во многом, но вообще порицал его, как бы не замечая того сам. Наконец он коснулся его несчастной страсти и высказал желание найти возможность удалить его.
«Я желал бы этого, – сказал он: – и для нашего спокойствия. Люди настороже, и я знаю, что там и тут ходят уже толки о наших отношениях к Вертеру. Прошу, подумай, как бы дать другое направление его чувствам, как бы отклонить его беспрерывные посещения».
Лотта молчала. Альберт принял ее молчание к сердцу. С той поры, по крайней мере, он уже не вспоминал ей о Вертере; а если она начинала говорить о нём, он или молчал, или заговаривал о другом.
Напрасная попытка Вертера спасти несчастного была последней вспышкою его угасавших сил, и за нею он пуще прежнего впал в унынье, стал жертвою безнадежности и бездействия. Когда же ему сказали, что он, быть может, будет призван к следствию, так как убийца начал запираться в преступлении – он совершенно вышел из себя.
Испытанные им в практической жизни неудачи, огорчения, неприятности при посольстве толпились в его памяти и ложились двойным гнётом на его страждущую душу. Он видел себя как бы обречённым на бездействие, лишенным всякой надежды, всякой способности предпринять какое-либо житейское дело. Его дни проходили в однообразном и печальном обращении с единственным существом, связывавшим его с жизнью. Сознавая, что нарушает спокойствие той, которую любит, не видя исхода, возможности согласить несогласимое, в постоянном разладе с самим собой, он подходил всё ближе и ближе к печальному концу.
О последних вспышках его страсти, о его растерянности, отвращении к жизни и беспрерывной с собою борьбе свидетельствуют следующие, оставшиеся после него письма.