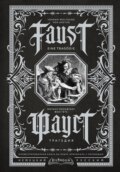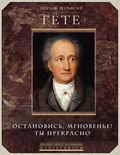Иоганн Вольфганг фон Гёте
Страдания юного Вертера
Послышались шаги на лестнице – это было в половине седьмого – она узнаёт походку Вертера. Он осведомляется о ней. Она узнаёт его голос: ее сердце забилось, и – едва решаемся вымолвить – забилось в первый раз при встрече с ним. Она отозвалась бы охотно, что её дома нет; но Вертер входит. С судорожною торопливостью встречает она его словами: «Вы не сдержали слава!» – «Я ничего не обещал», – отвечает он спокойно. «Так вам бы исполнить, по крайней мере, мою просьбу, – возразила она: – я просила вас ради нашего общего спокойствия».
Она хорошенько сама не знала, что говорит и что делает, когда поручила горничной, чтобы не оставаться наедине с Вертером, сходить к двум подругам по соседству, с просьбой её навестить.
Вертер положил на стол несколько книг и спросил о других, ему не возвращенных. Лоттой овладело странное беспокойство: она то желала, то не желала прихода посетительниц. Горничная возвратилась с ответом, что обе извиняются.
Она думала посадить в соседней комнате швею с работой, но нашла и это неудобным. Вертер ходил взад и вперёд. Она села за фортепиано и начала менуэт – пальцы не слушались. Она собралась с духом и села на диван. Вертер занял почти в то же время свое обычное место с боку, на том же диване.
«Принесли прочесть что-нибудь?» – спросила она. Он ответил отрицательно. «Там, в моей конторке, – сказала она, – найдёте тетрадь с вашими переводами из Оссиана; я их не прочла ещё; всё надеялась, что прочтёте сами; но как-то не приходилось». По лицу Вертера пробежала улыбка. Он достал тетрадь; но когда развернул её – содрогнулся. Он сел и начал читать.
«Встаёшь из-за облака, кротко мерцаешь на западе, звезда вечерняя; мирно совершаешь свой путь, озаряя высокий холм. Кого ищешь в долине? Стихли буйные ветры. Слышно журчанье ручья вдалеке. Морская зыбь ласкает утёс гранитный. Стаи вечерних мошек реют над полянами. Кого же ищешь ты? Улыбаешься? Плывёшь, тонешь в волнах морских, и любо им красоваться в твоих лучах. Прости, спокойное светило! Взойди же теперь, светоч мой, светило души Оссиана!»
«И оно всходит в полном величии. Я вижу сонм друзей усопших; они собираются на Лоре свершить тризну, как некогда стекались, в дни торжеств, ликовать на ней. Впереди Фингал, как столб туманный; с ним его воины, его барды: и седовласый Уллис, и стройный Рино, и Альпин, скорбный певец! С ними Армин злополучный, и ты, сладкогласная Минона! О, как преобразились вы, друзья мои, с последних пиршественных дней, когда состязались мы в песнях, согласных как шепот зефиров ночных, в играх весёлых, как колыхание по ветру осоки высокой!»
«Минона во всей красоте. Очи слезами одеты; веки опущены долу. Вьётся по ветру волос золотой. Она оплакивает судьбу Колмы, смерть Сальгара. Ее голос льёт скорбь в сердца героев; им знакомы мрачные сена усопшей четы. «Вспомним, поёт Минона, услышим Колму с горных высот».
Колма
«Ночь! Я одна на пустынной скале. Ветер завывает в ущельях; потоки клокочут над бездной. Ненастье, гроза – и мне негде преклонить голову!»
«Встань из-за тучи, месяц ясный! Явитесь, звезды ночные! Озарите мне путь, ведите к пристанищу любви, где Сальгар опочил от подвигов дня. Да увижу хоть спущенный лук, хотя его рыщущих псов! Увы, я одна на скале. Вздулся ручей под пятой. Слышу, потоки ревут, слышу только раскаты грозы. Милый, где же ты, где? Отзовись!»
«Что же ты медлишь, Сальгар? Разве слово забыл? Вот утёс, вот сосна, вот щумящий ручей и урочный час! Сбился ли где с пути, заплутался ли где в лесу? С тобой бы бежала, оставила бы отчий дом! Враждуют ли племена наша? – гордые – мы не враждуем с тобой».
«Смолкни, о ветер, на мгновенье! Стихни, ручей, на часок! Мой голос, раздайся! Услышь меня, странник! Сальгар! Зову я, Сальгар, услышь! Вот утёс, вот сосна, вот шумящий ручей! Милый, что же медлишь? Я стражду, я жду».
«Всходит луна, и буйные ветры стихли, и седы как были мшистые камни нависших стремнин; ноток в долине как прежде, блистая, журчит. Но увы, я не слышу знакомого лая тебя возвещающих псов! Я одна».
«Что вижу? Кто там на поляне простёрт? Брат мой? Сальгар, возлюбленный мой? О, отзовитесь, молвите слово, друзья! Молчанье! Страхом предчувствия заныло сердце. Мечи их багряны; кровь на доспехах, щитах! О, брат мой, мой брат, зачем ты Сальгара убил? О, Сальгар, о Сальгар, зачем ты брата убил? Ах, и ли не любила обоих вас? Молвите слово, услышьте меня! Увы, они немы; их перси хладны, как недра земли».
«Так пела Минона, нежно-румяная Тормана дочь. Наши слёзы по Колме слились с слезами Миноны».
«Выступил с арфой Уллин; ему вторили Альпин и Рино. Кроток был голос Рино, грозой разразилась Альнина душа. Они Морара оплакали, красу и надежду в боях. «Душа его, – пели они, – как Фингала душа! Меч его, как Оскара меч! Погиб он, и старец-отец его горько рыдал. Минона, сестра его, горько рыдала». Она – едва в струны ударил Уллин – отступила, как луна отступает на западе, завидев громовую тучу. Мою лиру я соглашал с арфой Уллина».
Рино
«Гроза промчалась; смеётся день; в лазури небесной как пух облака; солнце, изменник, озарило холм и скрылось в волнах; след его рдяный на горном потоке, в долине исчез. Лейся, отрадный ручей! Твой ропот дальний, как живая песня; но сладостней песнь о старине былой. Альпин, певец вдохновенный! Твои скорби как ветер в ущельях; твой голос, как лепетание зыби на берегу песчаном.
Альпин
«Мои слёзы усопшим; мой голос могилы жильцам! Строен, красив ты, мой Рино; но сгибнешь и ты, как Морар! На могильный твой холм воссядет печаль; спущенный лук, тетива в пыли – всё наследье, вся память о тебе!»
«Морар, ты был в поле быстр, как лань на холмах; ты был страшен к бою, как кара небес. Голос твой, как после ливня шумящий ноток, как раскаты грома в горах! Когда же возвращался, когда возвещал мир отчему дому – о, как нежен, кроток ты был! Твой взгляд, как солнце после ненастья, как молчаливая луна в безмятежную ночь. Грудь спокойна, как озеро после грозы».
«Узко твоё жилище, мрачны твои сени; тремя шагами меряю твою могилу. Посохшее дерево, осока пустынная, да четыре мхом поросшие камня – вся память Морара могучего! Ты ли это, сестра его? Плачь, Минона прекрасная! Ты ли это, согбенный на клюку старец, отец его? Чьи глаза красны от слёз, чья голова седа до срока? Плачь. Сон мёртвых глубок, низка их подушка в пыли, и не подымется сын на твой зов! О, когда же взойдёт утро над гробами? Когда же раздастся голос – проснитесь!»
«Прости, благородный и первый в боях! Поле не узрит твоей улыбки, тёмный лес не осветится сталью твоих доспехов! Не оставил ты сына, наследника твоему имени. Моя песнь будет твоим сыном; имя твоё не умрёт… она ему будет глаголом времён!»
«Глубока была наша печаль. Глубже всех тронут был Армин, певец; он вспомнил Ариндаля, сына; он Дору, свою дочь, вспомнил – и слезой оделись его очи. Поведай же, Армин, владыко омываемой озером Гормы, поведай повесть твоих злополучий!»
Армин
«Войте, ураганы осенние! Бушуйте, лесные потоки! Кедровые выси, клонитесь долу! Оденься тучей луна! Сумраки ночи, поведайте гибель моих детей, Ариндаля могучего, Доры возлюбленной!
«Дора, дочь моя, ты была прекрасна, как месяц на высотах Фуры, бела, как первый снег, нежна, как ветерок весенний! Ариндаль, туга была твоя тетива; твой щит, как облако огненное; взгляд, как отблеск волны»
«Армар, воитель славный, искал руки Доры; прекрасны были надежды наших друзей».
«Эраг, сын Отгала, питал злобу к нему. Он принял образ старца, коварный! В челноке озеро переплыл и обуял её словом лукавым: едем! Сказал он, прекрасная Аржина дочь; островок близок; там ждёт тебя Армар на свиданье».
«Изменник оставляет её на пустынной скале, а сам к берегу плывёт. Ариндаль! Армар! зовёт она – и вопль ее был услышан».
«Ариндаль, в тяжелых охотничьих доспехах, за Эратом в погоне. Его колчан стрелами звучит; вкруг него пять черно-пегих псов. Он к столетнему дубу лукавца приковал. Вопли связанного огласили пространство».
«Сын мой в ладье за Дорой плывёт. К берегу подоспел гневный Армар. Ариндаля он принял за изменника. Лук зазвенел, и стрела въ сердце сына впилась! Ладья с его окровавленным трупом разбивается, о Дора, у твоих ног!»
«Армар видит ошибку, бросается вплавь – умереть или Дору спасти. Порыв ветра – он тонет в волнах».
«Она видела гибель брата; видит гибель друга. Она одна на пустынной скале; ее вопли оглашают пространство. Долго и тяжко рыдает она. Помощи нет. Я на берегу стоял; я слышал ее вопли, рыдания. Я видел её при бледном мерцании луны; видел, как её дождь рубил! Силы Доры истощились; голос ее ослабел и стих, как смолкает ветер в траве пустынной, и на вечерней заре она отдаст последний вздох. Армин осиротел. Сгибла моя сила в боях; сгибла моя Дора, краса и гордость дев! Тяжки мои страданья, глубоки раны сердца!»
«Когда на горных высях бушует ураган, когда северик высоко подъемлет волны, я с пустынного берега гляжу на скалу, где погибла вся моя радость, и в полночь, когда в ризах тумана встают души усопших, я часто вижу три тени печальные. В величии бедствия, долу поникнув главами, рука об руку шествуют мои дети…»
Слёзы Лотты и ее тяжелый вздох остановили чтение Вертера. Он отбросил рукопись, схватил ее правую руку и горько зарыдал. Лотта оперлась на левую и скрыла глаза в платок. И он, и она были страшно взволнованы. Их собственная судьба сказывалась им в судьбе давно минувшим. Их чувства переполнились, глаза и губы Вертера горели на руке Лотты; по ней пробежала дрожь. Она хотела встать; но скорбь, участие, сострадание – ложились ей свинцом на душу. Чтоб отдохнуть, облегчить стесненную грудь, она просила, убеждала его продолжать. Он медлил. «Прошу, – говорила она, задыхаясь и глотая слёзы: – читайте, ради Бога, читайте!» Вертер дрожит, его сердце рвётся на части. Он едва мог собраться с духом, поднял рукопись и прерывистым голосом прочёл:
«Зачем, о весенняя радость, живишь ты меня? Ласкаясь, ты шепчешь: небесной росою кроплю! Ах, час моей гибели близок; близка непогода, что разнесёт листву мою! И след мой простынет, и странник – он знал меня в цвете, весной моей жизни – он взором окинет широкое поле… меня не найдёт!»
Последние слова всей своей силой пали на несчастного. В порыве совершенного отчаяния, он падает перед Лоттой, схватывает ее руки, прижимает их ко лбу, к глазам. Предчувствие его участи западает ей в душу; возмущённые мысли и чувства помрачаются. Она жмёт его руку, прижимает её к груди и, переполненные состраданием, наклоняется к нему – огонь к огню – их щёки встречаются. Мир забыт. Уже он обнял её, уже прижал её к груди. Уже рой неистовых поцелуев сыплется на ее трепетные, что-то лепечущие уста… «Вертер! – вскрикивает она заглушенным голосом: – Вертер! – повторяет она, защищаясь: – Вертер!» – восклицает она в порыве благороднейшего чувства и отклоняет дрожащей рукой его грудь. Он не противится, выпускает её из рук, бессознательно падает к ее ногам и обнимает их. Она отступает. Любовь, достоинство, смущение высказываются в словах: «Вертер, это в последний раз! Вы больше не увидите меня!» Ещё один взгляду полный любви и сострадания – и она уходит в смежную комнату и запирает дверь на замок. Вертер простирает к ней умоляющие руки – напрасно! Он падает перед диваном и, прислоненный к нему головой, остаётся на полу, покуда шорох в соседней комнате не вывел его из забытья: то была горничная – накрывать на стол. Он встал, прошелся несколько раз по комнате, и когда горничная вышла, он подошел к двери кабинета и тихим голосом сказал: «Лотта, Лотта, на одно слово, на одно прости!» Ответа не было. Он просит, настаивает, умоляет – ответа нет. «Прости же, – говорит он: – Лотта, навеки прости!» И с этим словом выходит.
Когда он подошел к городским воротам, знавшие его сторожа пропустили его. В снегу, в слякоти, под дождём, пробродил он до одиннадцати, и когда возвратился домой, слуга увидел, что он был без шляпы. На другой день нашли её на отвесе ближайшего к долине утёса, и трудно объяснить, как мог он в тёмную ночь, в непогоду, взобраться на гору. Когда он разделся, на нём не было сухой нитки – он промок до костей; но его железное здоровье перенесло всё.
Он лёг в постель и спал долго. Слуга застал его за письменным столом, когда принёс ему утром кофе. Следующая приписка в письме к Лотте сделана была, вероятно, в это утро:
«В последний, в последний раз я раскрыл глаза! Солнце, я больше не увижу тебя! Мрачен, ненастен день – и пусть же он будет моим последним днём! Печалься, природа! Твой сын, твой друг, твой возлюбленный – на краю гроба!»
«Лотта! Чувства этого не сравнишь ни с чем. Как выразишь то, чему, как бы в грезе тяжелой, любо сказать себе: это последний твой день! последний! Пойми, Лотта, сама смысл этих слов! Сегодня на ногах, в полноте жизни; завтра – на полу, в непробудном сне. Ещё принадлежу себе – тебе, тебе, возлюбленная. Мгновенье – и мы разлучены, быть может, навеки! Нет, Лотта, нет – могу ли исчезнуть? Можешь ли ты исчезнуть? Мы существуем! Исчезнуть? Слово, опять слово, звук пустой; сердце не внемлет ему. Сыро, холодно, тесно, темно!»
«Когда я был юношей, у меня была подруга; она была мне всем, заменяла мне всё. Она умерла; я проводил её. Когда гроб опустили в могилу, когда сперва одну тесьму, потом другую потянули вверх, когда на первую горсть земли крыша отозвалась и звонко, и глухо, и жалобно, потом всё глуше и глуше отзываться стала и наконец была вся засыпана землёй – истерзан, в отчаянии, я был вне себя. Я упал в могилу, но и там – странно – мысль о смерти была далека от меня. Смерть? могила? Я в толк не возьму этих слов!»
«Прощенья, теперь твоего прощенья прошу! Вчера, о, прости! быть бы этим минутам – последними для меня! О, мой ангел, в первый и в последний раз вкусил я блаженство твоих объятий, и так искренно, безгранично, так полно было оно! Полно, искренно как сознанье – она любит меня! Уста мои горят ещё святым теплом твоего дыханья; сердце моё ещё переполнено благодатью твоего сердца. Прости мне, прости!»
«Их, ведь знал же, угадал же я, что ты полюбишь меня, по первому взгляду, по первому пожатию руки… И когда я уходил, когда оставалась ты с Альбертом, меня схватывала лихорадка.
Вспомни только цветы, что прислала мне после того, как не могла, в скучном том обществе, ни взглянуть на меня, ни пожать мне руки. Они запечатлели мне твою любовь, и я до полуночи стоял на коленях перед ними. Впечатления прекрасные, видения мимолётные, они оставляют нас, как верующего оставляет благодать, составлявшая когда-то всё его блаженство».
«Но и самая вечность не потушит того огня, той жизни, которую вдохнул я из твоих уст! Она любит меня. Эти руки обнимали её; эти уста трепетали на ее лепетавших устах! Они моя. Да, Лотта, ты навеки моя!»
«Это не сон, не гадание. На краю гроба – вижу свет. Мы будем! мы свидимся! И первая там встреча – будет с твоею матерью. Ей раскрою мое сердце; ей расскажу мои обиды. Твоя мать – твоё подобие!»