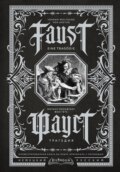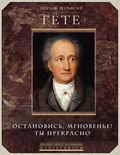Иоганн Вольфганг фон Гёте
Страдания юного Вертера
26 июля
Да, любезная Лотта, всё будет заказано, всё будет исполнено; давайте мне только по-больше поручений и почаще. Об одном прошу: ваших писем не засыпайте песком! Сегодня записочку вашу получаю, целую – и вот хрустит на зубах.
28 июля
Сколько раз твердил я себе – не видеться бы с ней так часто! Да, если б это было возможно! Дня не проходит без искушенья; каждый раз даю себе зарок: завтра ты не увидишь её! Наступает утро – являются и причины неизбежные, и не успеешь опомниться, как я уже там. Или она скажет с вечера: завтра увидимся? – кто же откажет? Или она порученье даст, по которому, думаешь, нужен личный ответ; не то день слишком хорош – нельзя же не пойти в Вальгейм, а тут только полчаса до нее. И то сказать, в самой атмосфере есть что-то. Бабушка рассказывала мне сказку о магнитной горе: на кораблях, подходивших к мой близко, пропадало вдруг всё железо; связи, гвозди, всё летело туда – и несчастные мореходы погибали в развалинах досок и брусьев.
30 июля
Приехал Альберт – и я уезжаю, и будь он благороднейший, добрейший, самый уживчивый человек на свете, не могу его видеть обладателем стольких совершенств! Обладатель? Назови чем хочешь: жених здесь – прямодушный, милый человек, которого нельзя не любить. По счастью, я не был при встрече: ударом бы больше моему разбитому сердцу. Он честен; он ни разу не поцеловал при мне Лотту. Бог награди его! Люблю его и зато, что он так примерно уважает её. Его расположением ко мне я, кажется, обязан больше Лотте, нежели его симпатии. Насчёт этого женщины весьма тонки – и они правы. Согласить двух обожателей – дело очень трудное; но если удастся, выгода всегда на их стороне.
Не могу, стало быть, не уважать Альберта. Его наружное спокойствие в совершенном противоречии с моим беспокойством, которого даже скрывать не умею; что нужды? У него много чувства и он знает цену Лотте; он же и не капризен; а ты знаешь, что я ненавижу в людях этот грех пуще всего.
Он видит во мне человека с толком, и моя привязанность к Лотте, моё сочувствие всем ее поступкам увеличивает его торжество, и он только тем больше любит её. Вот маленькие выходки ревности – иное дело; тут, может быть, он ей кое-чем и солит. Оно и естественно. На его месте, я бы и сам от этого дьявола не ушел.
Так или иначе, а с моим счастьем – бывать у Лотты – я должен проститься. Счастье! Ослепленье это или нелепость? Как хочешь называй; объясняй себе, как душе угодно. Я знал, знал всё, что теперь знаю, ещё до приезда его. Я знал, что не могу иметь притязаний, и не имел – разумеется, насколько было возможно не иметь желаний. Всё знал, и вот удивляюсь, что другой приехал, что ее другой берёт. Какой же я фофан!
Кусаю губы и вдвойне, и трижды смеюсь над теми, у которых язык ворочается сказать: я бы должен был отречься, смириться, я бы должен был предвидеть, и уж если на то пошло – к черту их, этих дутых умников! Рыщу по полям, и если потом к Лотте приду и окажется, что она в саду, в беседке с женихом и приличие не позволяет – я весел, как сатана; дурачусь, как отъявленный самодур, и весь дом коромыслом. Дети смеются, а я пуще, «Ради Бога, – сказала мне Лотта сегодня: – Прошу вас, не повторяйте вчерашних сцен! Вы ужасны, когда веселы, как были вчера».
Скажу тебе на ухо: я нашел другое средство. Теперь выжидаю, когда он уйдёт со двора. Знаю час, когда она бывает одна, и – как снег на голову! Остальное мне всё равно; лишь бы побыть с ней наедине…
8 августа
Не сердись, любезный Вильгельм! Уж, конечно, я не в тебя метил, когда непроходимыми называл людей, требующих полной покорности судьбе. Мог ли я думать, что ты думаешь, как они? Но в сущности ты прав. Об одном прошу, мой несравненный! Согласись, что так или этак вещи на свете редко делаются. Ощущения и действия людские также разнообразны, как многочисленны оттенки между носом курносым и клювом ястребиным. Так ты извинишь меня, если я доказательства твои под сукно положу и между твоими» или» славирую.
Или – изволишь писать – имеешь надежду на Лотту, или не имеешь никакой? Хорошо! В первом случае старайся осуществить надежду; во втором – ободрись, положи конец несчастной страсти; она же погубит тебя. Дружище! хорошо сказать и – легко сказать.
А скажи-ка несчастному, которого мучительная болезнь истощает, который неприметно близится к концу – скажи, чтоб он порешил разом и нож в себя всадил? Зло-то, что с силами и мужество отнимает, о нём-то и забыл? Суть-то забыл?
Конечно, ты мог бы подобным же сравненьем отвечать: не лучше ли пожертвовать рукой, нежели, думая да раздумывая, рисковать жизнью? Не знаю! Грызться за сравнения не будем. Довольно, если скажу, что и меня порой подмывает на крышу вскочить или в яму спрыгнуть. Хорошо бы, если б знать куда! Попробовал бы, куда ни шло!
В тот же день, вечером.
Мой на несколько дней забытый дневник попался мне опять под руки. Сам удивляюсь, как я мог шаг за шагом и с моего же ведома так далеко зайти! Как я постоянно сознавал, что делал, а между тем думал и действовал, как ребёнок! Как теперь тоже сознаю, и не вижу даже надежды к лучшему!
10 августа
Я мог бы вести тихую, спокойную жизнь, если бы не был такой простак. Какое счастливое стечение обстоятельств, и каких обстоятельств! Верно же, стало быть, что счастье зависит от нас самих. Друг превосходного семейства; стариком любим как сын; детьми, как отец; а Лоттой… А этот честный Альберт, ни одним облачком не помрачающий моего счастья, Альберт, которого дружба тепла и искренна, которому после Лотты я дороже всего. Ну право, Вильгельм, ты бы порадовался, если б видел нас на прогулках, да прислушал бы, что он тут о Лотте говорит! Уверяю тебя, забавнее наших отношений не было ничего с тех пор, как мир существует – не знаю только отчего. Лишь подумаю, у меня слёзы на глазах.
Когда он об ее покойной матери говорит: какая она была славная женщина, как умирая завещала Лотте за детьми и домом смотреть, как с той поры Лотта словно возродилась, Заменила им мать, хозяйство и домашние дела в руки взяла; всегда занятая, мелочами заваленная, как она вместе с тем весела и без суетни, без озабоченного даже вида, думает и делает всё за всех. Я слушаю, да так себе возле иду, дорогой цветочки собираю, пучочки делаю, аккуратные букетики – а тут речка, а я их в речку, да и смотрю, как они тихонько, понимаешь, расплываясь по течению, колышутся. Не помню, писал я тебе, что Альберт остаётся здесь и при дворе, где его любят, и где видное место получает с жалованьем, с хорошим жалованьем? В аккуратности дел и счётов я встречал мало ему подобных.
12 августа
Ну, конечно, нет под луной человека лучше Альберта. Вчера у меня с ним была прекурьёзная сцена. Мне вздумалось здешнюю гористую сторону осмотреть, откуда и пишу тебе теперь. Я отправился верхом, и когда заехал к нему, мне бросились в глаза – не успел я по комнате пройтись – его пистолеты. «Одолжи, – говорю, – пистолеты на дорогу». – «Пожалуй, – отвечал он, – если возьмёшь на себя труд их зарядить; ведь они у меня только pro forma висят. С тех пор, как моя осторожность сыграла такую штуку со мной, я с этой дрянью знаться не хочу». – «Ну, рассказывай, – говорю, – я послушаю». – «Жил я, – начал он, – в деревне у приятеля; со мной была пара незаряженных револьверов, и я спал спокойно. Надо же, чтобы в один ненастный вечер мне глупейшая мысль пришла – что на нас могут напасть, что пистолеты… Ну, сам знаешь. Я отдаю их вычистить слуге и зарядить. Тот с горничной балагурит, стращает её, и – их Бог ведает, как это случилось – только раздаётся выстрел и остававшийся в дуле шомпол попадает ей в руку и разбивает ей кость большого пальца. Начались жалобы, слёзы, леченья, да надо было и доктору заплатить – и с той поры я не заряжаю их. Вот тебе и осторожность! Что осторожность? Опасность не изучима; впрочем…» А надобно тебе сказать, что я этого человека люблю только до его» впрочем». Не понимается разве само собой, что где обобщенье, там нельзя и без исключений? Но такова справедливость человека! Не додумает – скажет какой-нибудь софизм или общее место подсунет, да сам же и начинает свою полуправду обусловливать, дополнять, да ощипывать, покуда из нее живого слова не останется; так и он со своим» впрочем». Но ты меня знаешь – я клал его слова в карман, а сам начал семенить, колобродить, дурачиться, принял трагическую позу и приставил себе дуло пистолета к правому глазу. «Фи!» – сказал он и отнял у меня пистолет. – «Да ведь не заряжен», – возразил я. – «Хоть бы и так – зачем это? Не могу равнодушно вспомнить, как иной глупец пускает себе пулю в лоб! Одна мысль уже претит».
«Как это у вас, у разумников, – возразил я: «о чём бы ни заговорили, сейчас готова сентенция: глупо, умно, дурно, хорошо! А много ли этим сказано? Известны вам скрытые причины поступка? Можете развить эти причины? Если б знали, если б могли, желудок бы наш так скоро их не варил, и приговоры ваши были бы осмотрительнее».
«Однако согласись, – сказал Альберт, – что известные поступки всегда будут порочны, какими бы обстоятельствами ни были вызваны».
Пожав плечами, я возразил: – «Однако, мой милый, ты должен, как охотник до исключений, в свою очередь сделать уступку. Чего, например, заслуживает человек, который для спасения своей семьи от голодной смерти решается на воровство: наказания или сожаления? Муж, который в минуту праведного гнева к черту посылает неверную жену и ее сообщника? Девушка, что в недобрый час забывается в объятиях любезного? Сами законы, эти хладнокровные педанты наши – и они понижают иногда свой голос, смягчая наказание преступника».
«Дело другое, – возразил Альберт, – когда человек, увлечённый страстью, теряет присутствие духа и действует как шальной, как пьяный, как полоумный».
«Ах, вы трезвые! Ах, вы разумники!» – воскликнул я. – «Страсть! Опьянение! Помешательство! Вместо участия в горькой доле, ни только ругаетесь над пьяницей, над неразумным, или как попы проходите равнодушно мимо их и благодарите Бога, как фарисеи, что Он не сделал вас такими же! Я сам, и не раз, бывал пьян; я сам в порывах увлеченья делал глупости как сумасброд, как полоумный, и однако не раскаиваюсь ни в том, ни в другом, потому что тут только понял я, в силу чего не одни пьяницы, но и люди необычайные слывут в глазах ваших мечтателями да сумасбродами. Стыдитесь! Вы же столь многим обязаны им! Но оставим исключительных людей. Не случается разве нам и в обыкновенной жизни слышать зачастую, как шальными называют тех, что на полпути своих благородных, свободных стремлений остановлены бывают вами же придуманными препятствиями? Краснеть бы вам, трезвые, стыдиться бы вам, разумники!» – «Ну, ты опять со своими причудами», – возразил Альберт. – «Тебе, который всё преувеличивает, следовало бы, по крайней, мере согласиться, что самоубийство не может стоять на одной доске с делами необычайными, потому что всё же оно не более, как слабость. Конечно, легче умереть, нежели влачить плачевную жизнь».
Ничто так не бесит меня, как если в то время, как говоришь от сердца, с увлечением, к тебе подъедут с замечаньецем, которое не стоит и слов. Но частью потому, что не ожидал лучшего, а частью, что много на это сердился, я только живо возразил: «По-твоему, это слабость? Прошу, не увлекайся наружностью! Оторопелый, что на пожаре подымает тяжести, которых перед тем и сдвинуть бы не мог? Обиженный, что в пылу гнева с полудюжиной справляется? – это по твоему будут также люди одержимые слабостью? Если же, мой милый, назовёшь телесное усилие силой, так и нравственного напряжения слабостью не называй!» Альберт посмотрел на меня и сказал: «Извини, примеры твои к делу нейдут».
«Может быть, – отвечал я: – мне не впервые слышать, что выводы мои граничат с болтовнёй. В таком случае посмотрим – не подойдём ли к истине с другой стороны. Войдём в душу человека, готового сбросить с себя ношу, некогда ему приятную. Ведь согласись, что мы насколько сочувствуем ему, настолько заслуживаем чести говорить о нём – не иначе, надеюсь? Натура человека, – продолжал я, – ограничена: радости, скорби, мученья переносит он только до известной степени, и гибнет, когда переполняется мера. Здесь, стало быть, вопрос не о слабости, не о силе, а o крайней мере испытаний, будь она физическая или нравственная – всё равно. И человека, лишающего себя жизни, считать слабоумным, по-моему, также нелепо, как называть умирающего от злой горячки трусом». – «Парадоксально! Очень парадоксально!» – воскликнул Альберт.
«Не столько, как думаешь», – возразил я. – «Ведь называем же ту болезнь смертельною, в которой силы наши частью истощаются, частью поставлены, бывают вне возможности помогать себе. Примени это к началу нравственному. Посмотри на человека, ограниченного в средствах; посмотри, как в нём развиваются идеи, вкореняются впечатления и как они растут, пока страсть не лишит его присутствия духа, при котором только и возможна борьба, пока мукам своим он не положит конца. И напрасно спокойный, разумный брат стал бы увещевать его! Он будет тоже, что здоровый у изголовья безнадежно-больного. Чтобы вдохнуть в него хотя крупицу своих сил, для этого и здоровеннейший детина также бессилен, как и сам больной».
Мои слова были Альберту не по плечу. Он туго понимал – и я завёл речь о девушке, которая по соседству утопилась недавно. Ее несчастную историю я изобразил так:
Доброе существо, выращенное на подённых работах, не знавшее другого развлечения, как в воскресный день с подругой по городу пройтись, чтобы прохожим свой многолетними трудами скопленный наряд показать, да разве послушать соседних сплетен, на чужую свадьбу посмотреть и много, что летом раза два за городом потанцевать – это существо приходит в тот возраст, когда неведомое ей чувство начинает говорить сильней и переходить наконец в потребность любить. Ее пламенная натура и ласкательства мужчин усиливают эту наклонность. К подругам, к прежним привычкам, она постепенно охладевает; недостаёт только случая, а он как сон в руку! Встречается человек, о котором ей как будто и прежде говорило чувство. Она ищет сближения с ним, на него полагает все свои надежды; ничего ни видеть, ни слышать не хочет; ничему не сочувствует, как только ему, единственному, и думает только о нём, всё о нем же, единственном! Неиспорченная пустотою тщеславия, руководимая одним задушевным желанием, она идёт прямо к цели; хочет принадлежать ему, хочет в вечном союзе с ним обрести всё счастье, все радости, о которых мечтала когда-то. Сто раз повторённые обещания, клятвы любезного, его смелые ласки кладут печать на ее надежды, обуревают её страстными желаньями, овладевают всей ее душой. Тёмное сознанье ей шепчет одно, предчувствие неведомых радостей говорит другое. Она мечется – все силы ее напряжены и она раскрывает объятия – надолго ли? Тот единственный, которому она всё отдала, тот единственный – бросает её, исчезает… Окоченела, обезумела, на краю пропасти! Ночь кругом; выходу нет: даже помысла о спасении нет – и хоть бы зорька слабой надежды! Нет! Потому что её оставил тот, кто был ей всем! А свет и широк, и далёк, и тех-то, что могли бы утешить её – множество. Да не видит она ни шири земной, ни дали морской; она одна – в целом, беспредельном мире одна! Меркнет в глазах. Ущемлённое сердце ноет безысходно. И чтоб облегчить его, дать вздохнуть ему – она бросается в бездну. Брось же ей камень в след!