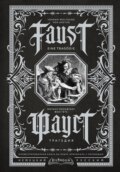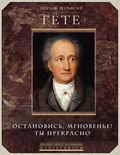Иоганн Вольфганг фон Гёте
Страдания юного Вертера
12 декабря
«Я в том положении, любезный Вильгельм, в котором по народным сказаниям находились несчастные, одержимые злым духом. Иногда схватывает меня – то не страх, не порыв – мятежное, неведомое клокотанье в груди – и горе мне! Я ищу простора и часто ночью, в непогоду враждебной осени, рыщу по окрестным лесам».
«Вчера наступила вдруг оттепель. Ночью, после одиннадцати, пришли мне сказать, что ручьи вздулись, река выступила из берегов и затопила всю долину до Вальгейма. Я выбежал из дому – и меня встретило поразительное зрелище: при лунном свете ревели, клубились потоки; буря со свистом и завываньем несла их на пастбища, луга и поля, обращённые разлитием реки в одно сплошное, волнующееся озеро».
«Я шел пригорками. Вдруг черная туча заслонила луну, и всё слилось в один глухой рев бушующих вод. Ощупью шел я в помрачении чувств далее, когда прорвавшийся луч луны озарил передо мною пропасть. Мною обуял ужас и невыразимое влечение к ней. Я дышал над нею, я ею дышал. Я утопал в блаженной мысли умчаться с волнами; я уже простирал руки к ним, в надежде утопить в них мои мучения, мои страдания. И что ж – не поднялась твоя нога, несчастный? не достало в тебе духа покончить с собой? Нет, знать час мой ещё не настал. О, Вильгельм, как охотно бы отдал я всю мою человечность зато, чтоб быть в силах разметать в клочья тучи и отбросить вспять поток. Нет, никогда не будет дана узнику та небесная свобода!»
«Ива, та одинокая ива в стороне, что в знойные дни принимала нас под тень – и она по пояс в воде! И те луга вкруг охотничьего дома, и тот садик, та беседка, думал я – и там Лотта. Потоки бушуют, рвут листву твою! И вдруг солнце прошедшего озарило меня. Так порою минутный сон ублажает заключённого – стада, поля родные, почести, власть! Я стоял над бездной – я ни с места. Но решимость, мужество были со мной».
«Между тем, я снова сижу здесь как старая нищенка, что стащила с соседнего забора несколько полешек и ждёт, у чужой двери куска хлеба, чтобы хоть на день ещё согреть и продлить свою безотрадную жизнь».
14 декабря
«Что это, любезный мой? Я сам себя страшиться начинаю. Разве любовь моя к ней не чистейшая, не братская любовь? Питал я разве желания недостойные? Распинаться не буду, однако – и вот сны! О, верившие в их знамение, как верно чувствовали они! Эту ночь – едва вымолвить решаюсь – я держал её в объятиях, прижимал её к сердцу. Ея уста что-то сладко шептали мне; я покрывал их бесчисленными поцелуями и глаза мои утопали в блаженстве ее черных глаз. Боже, виновен ли я, что и теперь ещё трепещу при одной мысли о том? Лотта! Лотта! Я должен кончить! Мои мысли помрачаются. Вот уже восемь дней как я не могу прийти в себя. Глаза опять полны слёз; я нигде не найду себе места. Мне всё равно – я ничего не желаю, ничего не требую. Мне бы лучше совсем уйти».
Решимость оставить свет возрастала в его душе с каждым днём. Это намерение сказалось ему ещё немедленно после вторичного возвращения к Лотте; но тогда он дал себе слово, что исполнит его не прежде, как уверившись в его неизбежности, что этот шаг должен быть спокойным, обдуманным, а не торопливым поступком.
Его сомнения, его борьба в это время с собой видны из заметки, непомеченной числом и составлявшей вероятно начало его письма к Вильгельму.
«Ее образ, ее судьба, ее сострадание к моим мучениям выжимают ещё последние слёзы из иссякшей моей головы».
«Стоит только поднять завесу! Зачем же сомневаюсь и медлю? Не потому ли, что не знаю, что за ней? Не потому ли, что возврата нет?»
Наконец он сроднился с печальною мыслью. Решимость его была тверда и непреложна. Это доказывает следующее, его двусмысленное письмо к другу:
20 декабря.
«Я обязан твоей любви, Вильгельм, что ты меня поймал на слове. Ты прав; мне лучше совсем отсюда уйти. Предложению – прямо к вам вернуться – я не очень сочувствую и желал бы сделать по крайней мере небольшой объезд. Морозы стоят постоянные и дороги установились. Благодарю за намерение приехать за мной. Повремени недели две и жди ещё письма от меня. Что не дозрело, того пожинать не следует; а в четырнадцать дней может много утечь воды. Матушке скажи, чтоб она молилась за сына, что прошу у ней прощение за всё, чем когда-либо огорчил её. Такова судьба моя – огорчать ту, которую должен был бы радовать. Прости, кой несравненный. Да будет благословение Бога над тобой! Прости!»
Что между тем происходило в душе Лотты, каковы были ее отношение к мужу и к нашему несчастному другу – это едва ли выразимо словами, хотя, зная ее характер, и можно составить себе приблизительно верное понятие о ее чувствах, о движениях ее прекрасного сердца.
Верно то, что она твёрдо решилась сделать всё возможное, чтоб удалить Вертера, и если медлила, то медлила потому, что вполне сознавала, во что это может обойтись ему. Сознавая всю опасность, которой подвергала его, она изыскивала средства к его спасению и не могла не внимать голосу говорившего за него сердца. С другой стороны, обстоятельства теснили, не допускали отсрочки. Муж хранил о Вертере совершенное молчание; она была вынуждена делать то же, и теперь ей следовало более нежели когда-либо доказать на деле уровень, тождество их нравственных наклонностей и пониманий.
В тот самый день, когда Вертер написал вышеприведённое письмо к другу – это было в воскресенье вечером, перед рождественскими праздниками – он застал Лотту за детскими игрушками и подарками к ёлке. Она была одна. Он заговорил об ожидавшем детей удовольствии; вспоминал о восторгах, когда, бывало, внезапно раскроются двери и ослепительная огнями ёлка явится с золотыми плодами и конфетками на блистающей подарками скатерти…
«И вас, – сказала Лотта, скрывая улыбкой смущение, – и вас ожидает нечто, если вы… сумете повести себя». – «Что вы разумеете, – спросил он, – под этим словом? Как могу я, как должен я повести себя, милая Лотта!» – «В четверг, – сказала она, – будет сочельник. Придут дети, придёт батюшка; каждый получит своё. Придёте, получите и вы… но не прежде». Вертер был озадачен. «Прошу вас, – продолжала она, запинаясь, – прошу ради спокойствия моего; это не должно, не может оставаться так!» Он отвернулся, начал ходить по комнате и, скрипя зубами, тихо повторял: «Это не должно, не может оставаться так!»
Лотта, сознав его положение, поспешила развлечь его мысли и сделала ему несколько вопросов. Напрасно. «Нет, Лотта, – воскликнул он, – нет, я более не увижу вас!» – «Почему же нет, Вертер? Вы можете, вы должны видеться с нами. Только прошу, о, прошу вас, умерьте, победите себя! О, зачем вы так созданы? Зачем эта пылкость, эта страсть, эта неукротимая падкость на всё, чему сочувствуете? Прошу же, – продолжала она, взяв его за руку, – укротите, умерьте себя! Ваш ум, ваши познания, ваши таланты – какие богатые средства для вас! Будьте мужем! Укротите эту печальную наклонность к существу, которое ведь только и может что сострадать о вас.»
Он заскрипел зубами и мрачно на неё взглянул. Она всё ещё держала его руку. «Одну минуту спокойствия, Вертер! – сказала она, – и вы поймёте, вы сознаете, что обманываете себя, что готовите свою гибель! И зачем же меня, Вертер, зачем именно меня, принадлежность другого? Поверьте – боюсь, боюсь вымолвить, а право кажется так – ваши чувства и желания не потому ли так настойчивы, что невозможны?» Он остановил на ней тяжелый, неподвижный взгляд. «Умно! премудро!» – сказал он, высвободив свою руку. «Это замечание – не Альберт ли вам внушил его? Политично! Очень политично!» – «Эти сказал бы всякий», – возразила она кротко. «Неужели же в целом свете нет девушки для исполнения желаний вашего сердца? Победите себя, попытайтесь, поищите – и, клянусь, вы найдёте её. Ограниченный круг, в который вы заключили себя – эта мысль давно пугает нас – не главная ли причина вашей беды? Решайтесь же, Вертер, победить себя. Предпримите путешествие, сделайте поиски, найдите предмет достойный вашей любви и возвратитесь к нам, да, к нам, чтобы в тесном кружке любви и дружбы насладиться земным счастьем».
«В печать бы, в печать! – отвечал он с холодным смехом, – и всем бы гофмейстерам разослать! Любезная Лотта, – прибавил он, – ещё немножко терпения, ещё несколько спокойствия мне – и всё будет хорошо». – «С условием, Вертер, что вы не придёте ранее сочельника…»
Он не успел ответить, как вошел Альберт. Они холодно поздоровались и начали ходить по комнате. Вертер сказал что-то, и разговор скоро окончился. Альберт начал о чём-то, и снова оба замолчали. Он спросил жену о кое-каких распоряжениях и когда услышал, что они не исполнены, сказал ей несколько слов, которые показались Вертеру холодными, даже крутыми. Он хотел уйти, но медлил; становился всё сумрачнее, всё беспокойнее. Так прошло время до восьми, и когда начали накрывать на стол, он взялся за шляпу. Альберт предложил ему остаться. Но видя в его словах только обычную учтивость, Вертер холодно поблагодарил и вышел.
Возвратясь домой, торопливо взял он свечу из рук слуги и один вошел в свою комнату. Долго ходил взад и вперёд, разговаривал вполголоса с собой и плакал. Потом не раздеваясь лёг на постель, на которой нашел его слуга, решившийся после одиннадцати войти к нему и спросить: не снять ли ему сапоги? Он согласился; но в то же время приказал не входить к нему прежде чем позовёт.
В понедельник утром, двадцать первого декабря, он написал к Лотте начало следующего письма, найденного запечатанным на его столе. Оно было написано, судя по почерку, в несколько приёмов и по его кончине вручено ей:
«Решено, Лотта: я должен умереть, и пишу тебе это спокойно, без романического напряжения, в утро того дня, в который увижу тебя в последний раз. Когда развернёшь это письмо, моя добрая – холодная земля будет уже покрывать останки беспокойного, несчастного, не знающего лучшего утешения в свои последние минуты, как беседовать с тобой».
«Я пережил страшную и вместе благодатную ночь. Она-то укрепила меня в решимости – умереть. Вчера, когда я отторгнулся от тебя и, возвратясь домой, сознал всю безнадежность, всю безотрадность моего бытия, я упал в страшном волнении чувств на колени и – Боже, Ты послал мне отраду горьких слёз! Тысячи мыслей, предположений обуревали меня, и, наконец, одна всецелая, непреложная мысль сказалась мне: ты должен умереть! Я лёг в постель, уснул, и когда раскрыл поутру глаза, та же мысль во всей своей полноте покоилась на сердце: ты должен умереть! Это не отчаяние, это уверенность, что я выстрадал свою долю, что жертвую собой за тебя. Да, Лотта, зачем умолчу, и мне ли не сказать правды в этот час? Один из нас трех должен исчезнуть с лица земли. Пусть же это буду я! О, моя добрая, каких ощущений, каких мыслей не перебродило в этом растерзанном сердце? Убить мужа твоего! тебя! себя! Да будет же!»
«Когда наступит лето, избери посветлей день и взойди на холм, с которого видна вся долина. По ней вьется тропинка. Вспомни обо мне и оглянись. На погосте, в зареве заходящего солнца, увидишь: высокая колышется трава… Я был спокоен, когда начал это письмо. И вот, когда будущее живей прошедшего передо мной, я плачу как ребёнок».
Часов около десяти Вертер позвал слугу и, одеваясь, сказал ему, что он через несколько дней уезжает, что все вещи должны быть в порядке. Он поручил ему потребовать неуплаченные счёты, собрать розданные книги и выдать за два месяца вперёд его еженедельные пособие бедным.
Он отобедал у себя и отправился верхом к советнику. Не застав его дома, он задумчиво ходил взад и вперёд по двору. Прошедшее и будущее ложились камнем на его душу. Прибежавшие дети также не давали ему покоя: преследовали его, карабкались на него и рассказывали, что если пройдёт завтра и ещё одно завтра, да ещё один день, они получат такие подарки от Лотты, каких ему и во сне не снилось. «Завтра, – воскликнул он: – и ещё одно завтра, и ещё один день!» – и он горячо поцеловал каждого, и думал уже оставить их, как одна из малюток попросила его сказать ему кое-что на ухо. Он нагнулся. Секрет состоял в том, что старшие братья приготовили к новому году поздравительные листы – такие большие листы! – один для отца, другой для Лотты и Альберта вместе, и один особый для господина Вертера – пусть только подождёт до нового года! Это известие заставило его поторопиться. Он подарил каждому по монете, сел на коня, поручил передать поклон отцу и со слезами на глазах уехал.
Около пяти он возвратился домой; приказал служанке затопить печь и поддерживать огонь до ночи. Слуге было поручено уложить бельё и платье. Затем сделал он, вероятно в тот же вечер, следующую приписку в письме к Лотте:
«Ты не ожидаешь меня: ты думаешь, что послушаюсь тебя и не приду ранее сочельника. О, Лотта, сегодня или никогда! В сочельник, после ёлки, это письмо задрожит в твоей руке, и ты омочишь его твоими добрыми слезами. Я хочу; я должен. О, как я рад, что я решился!»
Между тем Лотта была поставлена в крайне трудное положение. Только после последнего объяснения с Вертером почувствовала она, как тяжело ей будет расстаться с ним и во что ему обойдётся разлука с ней. Она как бы мимоходом сказала вчера, что Вертер не придет ранее сочельника. Она это сказала в присутствии Альберта, который в тот же вечер уехал в соседнее местечко по делам, чтоб остаться там на ночь.
При ней не случилось ни одной из сестёр; она оставалась совершенно одна и предалась мыслям, незаметно осадившим её со всех сторон. Она сознавала, что навсегда соединена с мужем, который доказал ей свою любовь и верность, которому она предана всем сердцем и которого спокойный и доверчивый характер, казалось, был предназначен самим небом для ее супружеского счастья; словом, она сознавала всё, чем он может быть для неё и для детей. С другой стороны, ей представилась картина всего происшедшего между ней и Вертером с первой минуты знакомства с ним. Их наклонности, их симпатии, их постоянные и продолжительные беседы, вместе перечувствованные движения души, обмен мыслей – все это положило неизгладимую печать на ее нежную, восприимчивую душу. Она привыкла делиться с ним; он привык делиться с нею всем, что им встречалось интересного в жизни, и его отсутствие должно было оставить пустоту, ничем незаменимый пробел в ее быту. О, если б она могла обратить его в брата – как счастлива была бы она! Если б могла женить его на одной из подруг! Если б могла восстановить его прежние отношение к мужу!
Она перебрала в мыслях всех своих подруг. Не нашлось ни одной, которая была бы достойна его.
Не давая себе ясного отчёта в этих мыслях, она не могла однако не сознать в глубине души, что ее сокровенным желанием было – сохранить себе Вертера. Смущённо сознаваясь в этом, она в то же время внушала, твердила себе, что не может и не должна питать такого желания. Ея досужая, чистая, легко помогавшая себе натура впервые испытала гнёт безысходной тоски и непреодолимых преград согласить несогласимое. Дверь к счастью закрылась перед ней; грудь стеснилась, и тёмное облако скорби заволокло ее светлые очи.