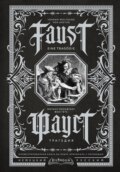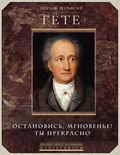Иоганн Вольфганг фон Гёте
Страдания юного Вертера
Около одиннадцати Вертер спросил слугу: не знает ли он, возвратился Альберт или ещё нет? Слуга отвечал, что сейчас видел, как провели его коня. Вертер даёт ему незапечатанную записку:
«Не одолжите ли мне на дорогу ваши пистолеты? Будьте счастливы!»
Наша добрая Лотта спала худо последнюю ночь. Чего она опасалась, то было решено, и решено так, что она себе такой скорой развязки и вообразить не могла. Ея всегда спокойная, чистая кровь лихорадочно возмутилась; противоречивые ощущения обуяли ее прекрасным сердцем. Огонь ли то был объятий Вертера? досада ли на его дерзость? прискорбное ли сравнение ее настоящего с ее прошедшим, с светлыми днями ничем неомрачённой невинности, уважения и полного доверия к себе? Как встретит она мужа? Как сознается ему во вчерашней сцене с Вертером? Как сознается в том, в чём и могла бы сознаться, и на что решиться опасалась? Альберт и она так долго хранили молчание об отношениях к ним Вертера. Ей ли первой было нарушить молчание, и та ли была пора для этого? Уже одно известие о посещений Вертера должно было, после выше объяснённого, огорчить мужа, могла ли она надеяться, что он взглянет на это происшествие с настоящей точки, без предубеждений?
С другой стороны, сможет ли, сумеет ли она притвориться перед мужем, которому являлась всегда как чистейший кристалл, ничего перед ним не скрывая и не умея даже скрывать? Сомнения вставали за сомнениями, между тем как ее мысли беспрерывно возвращались и к погибшему для нее Вертеру, которого она не в силах была, но, увы, должна была предоставить самому себе, и которому с утратою её не оставалось ничего.
И теперь только осознала она пропасть недоразумений, отдаливших её от мужа, недоразумений, порождённых последним пробелом их откровенности. Могла ли она думать в первые минуты молчания, что оно ляжет таким гнётом на их судьбу? Обстоятельства усложнились до-того, что теперь, когда настал решительный час, не предвиделось даже возможности благоприятной развязки.
«О, если бы, думала она, счастливая минута сблизила опять наша сердца! если б заговорила, раскрыла их наша доверчивость, наше взаимное снисхождение – общаг друга, быть может, ещё можно было бы снасти!»
Ко всему этому, присоединилось ещё одно обстоятельство: Вертер, как из его писем видно, не очень-то дорожил жизнью. Альберт, напротив, всегда оспаривал мысль о самоубийстве; на эту тему, случалось, он часто беседовал с Лоттой. Будучи врагом всякого подобного покушения, он иногда оспаривал Вертера с раздражительностью, вообще несвойственною его спокойному характеру, иногда даже намекал ей, что не предполагает серьёзных насчет этого убеждений в Вертере; даже позволил себе раз подшутит над ним и дал как бы знать, что Вертер прикидывается только таким. С одной стороны, это её успокаивало, с другой – это же усугубляло ее нерешимость сообщить мужу свои опасения. Она мучилась; не видела исхода беде.
Альберт возвратился. Лотта встретила его с торопливым смущением. Он был не в духе; его дело не удалось. Чиновник, от которого зависел успех, оказался мелочным, несговорчивым формалистом. Дурная дорога довершила неудачу поездки.
Альберт спросил: «Не случилось ли чего?» Она поспешила ответить, что вечером был Вертер. Он спросил: «Нет ли писем?» Она ответила, что на его имя получено несколько конвертов.
Он уходит в кабинет, и она остаётся одна. Присутствие мужа, ею любимого, уважаемого, подействовало на неё благоприятно. Она припомнила его любовь, его доброту, великодушный характер, и добрый гений шепнул ей – следовать за ним. Она собрала свою работу и, как это и прежде бывало, вошла в его комнату. Он вскрывал конверты и читал бумаги. Некоторые были, казалось, неприятного содержания. Она сделала несколько вопросов. Его ответы были кратки. Он подошел к конторке и начал писать.
Так прошел мучительный час, и туча скорби снова заволокла ее кроткую душу. Мрачное расположение мужа отнимало всякую надежду на взаимную откровенность. Признание просилось наружу; сомнения становились поперёк. Ею овладело отчаяние, а тут ещё надо было скрывать, глотать слёзы….
Вошел слуга Вертера. Она содрогнулась. Прочитав записку, Альберт оборачивается к ней и говорит спокойно: «Дай ему пистолеты». – «Скажи, что желаем счастливого пути», – отвечает он посланному, и продолжает писать. Она как громом поражена; еле встаёт, шатается, медлит и тихим, неровным шагом подходит к стене. Ея руки дрожат. Она снимает пистолеты, стирает с них пыль и снова медлит – и долго бы медлила. Альберт оборачивается и останавливает на ней вопросительный взгляд. Молча вручает она, дрожащей рукой, зловещее оружие посланному. Слово замерло; вздох подавлен. Слуга выходит. Она складывает свою работу и, сама не зная, что делает, уходит в свою комнату. Ее положение невыразимо; сердце полно недобрых предсказаний. Ее берёт ужас; она готова упасть к ногам мужа; готова сознаться в случившемся, признаться в своей вине, в своих опасениях. Но встают новые сомнения, а за ними безнадежность – подвигнуть мужа к спасению Вертера. Да и решится ли он идти к нему, и какой будет всему исход?
Между тем стол был накрыт. Приходит одна из подруг, и требование приличий доставляет некоторое развлечение несчастной. Она принуждает себя. Разговаривают, рассказывают, а у ней на сердце камень.
Когда возвратился слуга, Вертер с жаром выхватил у него пистолеты, услышав, что они были вручены самой Лоттой. Он приказал принести себе вина и хлеба, отпустил его ужинать и между тем сделал в письме к ней следующую приписку:
«Они прошли через твои руки. Ты стёрла с них пыль. Целую их тысячу раз! И так, небесный гений, ты сама благословила мою решимость, сама вручаешь мне орудие смерти! Чего я так желал, то исполнилось. О, я обо всём расспросил посланного! Твои руки дрожали; ты не произнесла ни слова – и – горе – не сказала мне «прости!» Не закрылось ли для меня твоё сердце, за мгновенье соединившее нас навеки? Нет, Лотта, тысячелетия не изгладят тех впечатлений, и ты не можешь ненавидеть того, кто так пламенеет тобой!»
После ужина он приказал всё уложить, разорвал несколько бумаг, вышел со двора и расплатился с последними долгами; потом, несмотря на дождь, вышел за городские ворота и обошел сад охотничьего дома и окрестности. Возвратился с наступлением ночи и написал следующие две записки:
«В последний раз, Вильгельм, взглянул я на лес, поле и небеса. Прости и ты! Любезная матушка, простите! Утешь её, Вильгельм – и Бог вас благословит! Мои дела в порядке. Прости! Мы увидимся и, надеюсь, радостнее».
«Я худо заплатил тебе, Альберт; но ты меня простишь. Я нарушил спокойствие твоего очага; я поселил недоразумение между вами. Прости! Я это покончу. О, если бы смерть моя была залогом вашего счастья! Осчастливь, Альберт, осчастливь своего ангела – и Бог благословит тебя».
Он долго ещё возился с бумагами; некоторые разорвал и сжег; остальные оставил, в нескольких конвертах, на имя Вильгельма: то были небольшие статьи, литературные заметки; мы их видели впоследствии. В десять часов он приказал подложить огня, спросил бутылку вина и отпустил слугу, который помещался на другой половине дома. Слуга не раздевался, так как Вертер предупредил его о своём отъезде с рассветом.
После одиннадцати.
«Всё тихо. Моя душа спокойна. Благодарю, Боже, что не оставляешь меня в последние минуты теплотой и силой!»
«Подхожу к окну, моя добрая, и вижу, и вижу ещё сквозь бурные, быстро несущиеся облака несколько звезд вечного неба. Нет, вы не падёте! Вечный хранит вас в своём сердце. Вижу и мою любимицу, прекрасное созвездие колесницы. Да, оно часто сияло мне в ночи, с высот небесных, когда я из твоих ворот выходил. Я часто простирал к нему руки, призывал его в знамение, в свидетели моего блаженства! И вот – о, Лотта! куда ни оглянусь, всюду память о тебе; ты словно объемлешь меня. Как жадный ребёнок, окружил я себя безделушками, к которым прикасалась ты, которыми я обокрал тебя!»
«Твой силуэт – его завещаю тебе; чти его! Возвращаясь, уходя, я с ним делил мои чувства; на нём тысяча печатей моей любви!»
«Особой запиской прошу твоего отца принять под защиту моё тело; проси и ты его. На погосте, между двумя липами, что к полю, в углу желаю сложить мои кости. Он может и сделает это для своего друга. Чувства благочестивых христиан не будут возмущены соседством с моим несчастным прахом. Не то, лежат бы мне в долине пустынной или у дороги столбовой, чтобы самаритянин пролил слезу».
«Рукою твёрдой беру чашу, Лотта, которую ты подносишь мне. Да исполнятся же все мои желания, все мои надежды, – все! все! В железную дверь смерти стучу… И холод, и мрак!»
«О, радость бы отваги была со мной, знай я, что на моей могиле расцветёт твоё благоденствие. Да, если б я взыскан был счастьем умереть за тебя! Увы, не всем участь высокая – пролить кровь за брата, взойти зарёй лучшей жизни! О, когда же настанет их день?»
«Отец твой схоронит меня в одежде, что на мне: к ней прикасались твои руки. Моя душа будет сторожить над гробом. Не обыскивать моих карманов! Пунцовую ленту, твой подарок, положите мне на грудь – она была на тебе, когда я впервые увидел тебя в кругу наших малюток. О, тысячу поцелуев им! Милые, как они резвятся! Вместо моей сказки, расскажи им историю их несчастного друга. Ах, как я прильнул к тебе с того мгновения, как увидел между ними тебя! Мог ли я тогда думать, куда приведёт меня та дорога? Теперь успокойся! О, прошу, успокойся!»
«Заряжены! Бьёт двенадцать – в добрый час! Прости, Лотта! Лотта, прости!»
В соседстве услышали выстрел, видели огонёк; но так как всё опять стихло, общее спокойствие не было нарушено.
Утром в шесть часов слуга вошел в комнату Вертера. Он видит его на полу; видит пистолеты и кровь; наклоняется к нему, ощупывает его, Ответа нет; слышно было только хрипение в груди. Он бежит за доктором, бежит к Альберту. Лотта услышала звонок и содрогнулась. Она встаёт, будит мужа. Задыхаясь, рыдая, слуга рассказывает случившееся. Лотта падает без чувств к ногам Альберта.
Медик находит Вертера безнадежным. Пульс ещё бился, но все члены онемели. Пуля прошла от правого глаза к затылку и раздробила череп. Отворили жилу на руке: кровь пошла. Несчастный ещё дышал.
По крови на креслах и на полу можно было заключить, что он застрелился сидя перед письменным столом, свалился и метался в конвульсиях. Простёртый на спине, он лежал лицом к окну, в своей обыкновенной одежде.
Дом, соседи, весь город пришли в движение. Альберт не замедлил, Страдальца положили на постель; голову перевязали. Лицо было мертвенно, члены неподвижны и только от времени до времени слышно было хрипение в лёгких. Ждали его кончины.
По бутылке было видно, что вина он выпил одну рюмку. На конторке лежала раскрытая книга – «Эмилия Галотти».
О душевном состоянии Альберта, об отчаянном положении Лотты позвольте умолчать.
По первому известию прискакал старик. Он поцеловал умиравшего и горько зарыдал. Двое старших его сыновей пришли вслед за ним. Они упали перед постелью Вертера и, рыдая, целовали его руки и лицо. Старший, его любимец, повис на его шее и принял от него последний вздох; его насилу могли оттащить. В полдень несчастный скончался. Присутствие советника и его распоряжения подняли весь город. В ночи, около одиннадцати. Вертера похоронили по завещанию на им указанном месте. Советник и двое его сыновей шли за гробом; его несли ремесленники. Альберт не мог его проводить. Опасались за жизнь Лотты.