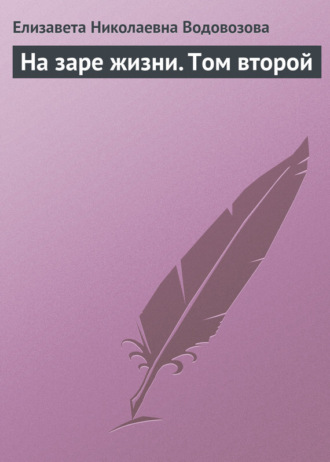
Елизавета Водовозова
На заре жизни. Том второй
В то время как княжна Липа с некоторыми другими принялась составлять протест Тургеневу, который, кажется, совсем не был ему отправлен, началось обычное веселье. На этот раз все так устали к трем часам, когда расходиться считалось еще слишком преждевременным, что затеяли игру в «оракула». Тот, кто исполнял эту роль, садился с завязанными глазами на стул посреди комнаты, и к нему один за другим подходили и клали руку на его голову. При этом кто-нибудь спрашивал его, что будет с особою, рука которой покоится на его голове. Говорить о том, что сердце означенной особы пламенеет безумною страстью, что тот или другой умирает от ее равнодушия, что она выйдет замуж за того-то, казалось в то время слишком личным, а потому даже и в такой игре старались представить общую картину будущего строя общества и указывали на роль, которую будет играть в нем личность, желающая услышать предсказание оракула. Остроумию и фантазии предоставлялся при этом полный простор, но то и другое встречалось не часто.
Завязанные глаза и то, что это было простою забавою, не мешало произносить длинные речи. Один молодой человек, исполнявший роль «оракула», набросал в своей речи картину теперешней деревни с убогими, курными, полуразвалившимися избенками. Ее единственная улица – грязная, топкая лужа с барахтающимися свиньями; по ней проходит жалкий, малорослый скот, перебегают босоногие деревенские ребята-заморыши, двигаются оборванные, с изнуренными лицами крестьяне. Через тридцать лет все преображается. Это уже значительный поселок с несколькими широкими, прекрасно вымощенными улицами, с уютными крестьянскими жилищами, с большими садами, в которых высятся фруктовые деревья, а на клумбах пестреют цветы. Позади деревни тянутся поля, прекрасно обработанные по новейшим способам. Внутренняя обстановка деревенских жилищ, как и их внешность, вполне соответствует требованиям культуры: в каждом домике несколько комнат, простенькая, но чистая мебель, по стенам – портреты великих людей и полки с книгами. Среди деревни три громадные дома – дворцы, но без всяких бесполезных архитектурных украшений, с высокими залами, с огромными окнами, дающими свободный доступ солнцу и воздуху. Одно из этих зданий-дворцов – школа для детей младшего возраста, другое – для детей среднего возраста, третье – университет.
– Да-с, господа, университет, настоящий университет! Через тридцать лет не только в больших и малых городах России, но и в деревнях с значительным населением будут свои университеты. Они будут отличаться от теперешних несравненно лучшим составом профессоров, и лекции в них будут читаться исключительно по вечерам. Все различия между сословиями будут стерты к этому времени: не будет ни господ, ни крестьян, ни бар-паразитов, ничего не делающих, а только услаждающих себя, ни людей, трудящихся до истощения, ни нищих, ни безграмотных. Взрослое население, мужчины и женщины, днем на полевых работах, разумеется, сообразно с силами каждого, а вечером все отправляются в университет на лекции. Не будет сословных перегородок, не будет и резкого различия в одежде: все одеты просто, но чисто и соответственно с временем года. На лицах – ни следа уныния и забитости: все бодры, веселы, оживленны. Среди взрослого населения только одна из женщин отличается от других, и то лишь тем, что на седых ее локонах (я говорю об особе, рука которой покоится на моей голове) красуется венок из чудных роз: трогательный подарок воспитываемых ею детей. Тогда это будет уже стареющая, но, несмотря на это, все еще прелестная матрона: она окружена громадною ватагою веселых, здоровых, краснощеких детишек, с которыми она отправляется к озеру, чтобы приглядеть за малышами во время купанья.
Хотя картина близкого будущего русской деревни была набросана «оракулом» наивно до ребячества, но, судя по горячим аплодисментам, она, очевидно, понравилась присутствующим. Ваховский же с хохотом кричал ему:
– Браво, браво! Вот она прирожденная тяга к эстетике, – говорил он. – Даже такой отрицатель ее, как В., нашел необходимым украсить будущие сады крестьян цветочками, а для матроны не пожалел и венка из чудных роз! Хотя далеко не так скоро, как вы мечтаете, мои молодые друзья, но, несомненно, лет через тридцать произойдут большие перемены на нашей родине. Очень сомневаюсь, что к этому времени вы добьетесь братства и равенства, не рассчитываю я и на деревенские университеты, но надеюсь, что материальное положение народа чрезвычайно улучшится, не сомневаюсь и в том, что к тому времени не будет уже ни одного безграмотного. Добьемся мы, конечно, лет через тридцать и иной формы правления, когда станет легче жить русскому народу, усилится движение во всех сферах общественной деятельности. Эти перемены произойдут прежде всего оттого, что даже люди, не особенно гуманные от природы, поймут наконец, что их личная выгода, их интересы тесно связаны с выгодами и интересами ближних, и все ревностно примутся работать на пользу просвещения народа и для его материального благополучия. И это будет иметь громадное влияние на обновление всех условий нашей жизни! Но даже и в том случае, если бы осуществились все ваши мечты, у человека останется свой собственный уголок в сердце, где он будет прятать свои лучшие сокровища: любовь к природе и красоте. И вы, господа нигилисты, можете отрицать все, что угодно, можете с головой уйти в общественную деятельность, а придет время, и вы, как и все остальные смертные, будете увлекаться, любить, ненавидеть, ревновать…
– Передохните, господин словесник! Передохните! – закричал ему медик Прохоров. – Как врач, прописываю вам по утрам холодные души!..
Ваховский со смехом отвечал, что не последует его предписанию, «ибо до конца своих дней желает сохранить огонь в крови».
Публика начала уговаривать Очковскую исполнить роль «оракула», но она наотрез отказалась. С тою же просьбою обратились к «Смерчу». Он сейчас же уселся на стул со словами:
– Я никогда не ломаюсь, как прочие. (Язвительный намек на Очковскую.)
Когда ему завязали глаза, одна из дам положила ему на голову руку Очковской. Он вздрогнул и начал свою речь прерывающимся от волнения голосом:
– Вам известно, господа, что в настоящее время только что изобретен новый способ выводить цыплят, хотя и из яиц, но без курицы, с помощью нагретого воздуха. Один опытный сельский хозяин говорил мне, что это открытие произведет огромный переворот в сельском хозяйстве, я же полагаю, что это поведет в близком будущем даже к перевороту во всем человечестве. Подумайте сами: если начали выводить цыплят, то со временем, и, по всей вероятности, очень скоро, могут додуматься до того, как чисто механическим путем, но, конечно, с более усовершенствованными и сложными приспособлениями, чем это делается относительно цыплят, начнут увеличивать население. И вот тогда уже все золотушные сентименты относительно страстной любви между полами падут сами собой. Должен сознаться, я с грустью думаю о положении личности, рука которой, если не ошибаюсь, лежит на моей голове. Хотя она будет тогда, увы, уже весьма, весьма престарелою особою, вероятно, без единого зуба и без единого волоса, но, конечно, даже и тогда она все же будет вздыхать о страстной любви, навсегда утраченной и для нее лично, и для всего человечества.
Раздался неудержимый хохот: то один, то другой собирался что-то возразить, но не мог выговорить ни слова от душившего смеха. Общий хохот и фырканье стихали на мгновение, но возобновлялись снова и снова. Эта речь, сказанная серьезно, а под конец даже с каким-то злорадством и угрозою в голосе, предназначалась Очковской, в которую так отчаянно-безнадежно, так безумно влюбился Этот беспощадный отрицатель страстных чувств. Я взглянула на «Смерча», который уже стоял в сторонке, потупившись, с трясущимися руками, с нервно скривившимися губами, – и у меня болезненно сжалось сердце. Я уже на первых вечеринках слышала, что у него чахотка. Затем я не видала его более месяца и заметила, что с тех пор его болезнь сделала большие успехи: он сильно исхудал, щеки провалились, красные пятна покрывали его выдававшиеся скулы. Вероятно, рука об руку с прогрессирующею болезнью каждая капля крови этого несчастного юноши была отравлена ядом неразделенной любви. Месяца через два после этого, когда я уже жила в деревне, сестры писали мне, что «Смерч» простудился, схватил воспаление легких и умер в больнице.
На другой день после вечеринки Вера Корецкая вернулась с урока раньше обыкновенного и заявила, что ей крайне необходимо взять свою книгу у Петровского, носившего кличку «Экзаменатора», и советовала мне прогуляться с нею к нему, уверяя, что в такое время мы не застанем его дома.
Нам отворила дверь девочка лет двенадцати со словами: «Вы, верно, одна из „сестер“, к которым ходит наш Петруша?» Вера подтвердила ее догадку, и к нам в ту же минуту вышли: девочка лет одиннадцати и пожилая женщина в переднике, с засученными рукавами, мать обеих девочек и квартирная хозяйка Петровского. Она, как мы узнали через несколько минут, была женщиною без всяких средств, вдовою бедного чиновника, и сама выполняла обязанности кухарки. Она умоляла нас не только войти в комнату «Петруши», но и напиться с ними чаю. «Все, у кого бывает наш Петруша, нам самые близкие люди», – с чувством говорила она. Вера спросила ее, не родственница ли она Петровского. Оказалось, что она совсем чужая ему, знает его лишь с тех пор, как он сделался ее жильцом, но она любит его, как родного сына, а он, по ее словам, делает для нее гораздо больше, чем делают сыновья для своих родных матерей. При этом она ввела нас в комнату Петровского. Вера с удивлением спросила, как он может жить и заниматься в такой крохотной, полутемной конурке. Хозяйка рассказала нам следующее. Она сдала ему внаймы лучшую, самую большую комнату в своей квартире, в которой он и поселился. Но когда он прожил у них несколько дней и увидал, что обе ее дочери занимались в полутемной комнате, а третья служит спальнею и столовою для всей семьи (квартира состояла всего из трех комнат), он настоял, чтобы она переселила своих дочерей в его комнату, а сам перешел в полутемную на том якобы основании, что; днем его никогда почти не бывает дома, а при искусственном освещении все равно, в какой комнате заниматься. Эту комнатюрку, занимаемую Петровским, хозяйка считала настолько плохою, что не находила даже возможным сдавать ее внаем. Когда Петровский занял ее, она обрадовалась этому и назначила за нее плату наполовину меньше той, которую он условился платить ей за хорошую комнату, но он не согласился на это и продолжает ей платить за эту плохую комнату по условленной цене, как за первую, им нанятую. Но этого мало: младшую дочь хозяйки Петровский приготовил в первый класс женского училища для приходящих, в котором обучалась и старшая ее девочка, до сих пор, почти ежедневно, следит за занятиями ее обеих дочерей, объясняет им все, чего они не понимают, снабжает их книгами для чтения и проверяет, читают ли они их. Хозяйка, когда стала передавать нам о том, как Петровский приходит ей на помощь решительно во всем, – не выдержала и закончила свой рассказ, обливаясь слезами. Она по бедности может лишь очень маленькое жалованье платить дворнику, который вследствие этого небрежно выполняет свои обязанности. И вот, когда необходимо, Петруша нарубит ей дров, даже помои вынесет, решительно ничем не брезгает.
– А когда мне делается совестно, что он работает, как чернорабочий, да еще бесплатно, он меня же еще бранит на чем свет.
Затем хозяйка выдвинула ящик его письменного стола и показала нам объявление, крупно написанное рукою Петровского на целом листе, которое он, когда уходит из дому, прикрепляет на видном месте, чтобы каждый, приходящий к нему, мог его прочесть. Объявление гласило: «Папиросы в столе, чай, сахар и булки в комоде, неимущие могут всем пользоваться беспрепятственно». И пользуются так, – говорила хозяйка, – что ему, бедненькому, часто самому не остается для другого дня. Вот потому-то она, по уходе его, когда знает, как теперь, что у него припасов осталось немного, а до получки денег еще далеко, потихоньку от него и прячет в стол его объявление.
Этот рассказ просто поразил меня. Я и представить себе не могла, что «Экзаменатор», бесцеремонно навязывающий свои знания, столь дерзко высказывающий в глаза всем нелестные мнения, эта бочка, точно порохом набитая идеями и фразами, которые он разбрасывал, не обращая внимания на то, как это подчас дико, комично и неприятно для Других, мог быть такою прекрасною личностью. Но мне скоро пришлось убедиться в том же и относительно многих других молодых людей обоего пола: несмотря на то что они, как и Петровский, выражали свои мысли и взгляды весьма фразисто, они, как и он, оказывались альтруистами, людьми, у которых слово не расходится с делом. Может быть, молодежь того времени потому так и склонна была к высокопарным выражениям, что с фразами из гражданского] и общественного лексикона многие тогда только что познакомились. Как бы то ни было, но я на деле нередко убеждалась в том, что для многих высказываемое торжественно и искусственно было не голыми догматами катехизиса шестидесятых годов, а жизненными идеалами, всосавшимися в плоть и кровь, овладевшими их сердцами и всеми помыслами.
Глава XIX
Раздел семейного имущества
Положение членов моей семьи после крестьянской реформы. – Второй брак моей сестры. – Ее муж П. П. Лаговский
Прежде чем описывать мое пребывание в деревне, я должна сказать хотя несколько слов о судьбе членов моей семьи после уничтожения крепостного права, с которыми я познакомила читателей в первых очерках этой книги.
Года за два до окончания мною институтского курса моя мать переехала в Бухоново, имение своего брата, которым она управляла. Что же касается своего собственного поместья – Погорелое, то, поставив в нем хозяйство весьма разумно и добропорядочно, она в 1861 году поселила в нашем доме своего старшего сына, моего брата Андрея, который в это время был уже женат и оставил военную службу. Матушка не пожелала жить с молодыми, и, как только они переехали в Погорелое, она немедленно и навсегда переселилась в Бухоново, выстроив в нем для себя хибарку на скорую руку. Я так называю ее жилище потому, что его нельзя было считать ни домом, ни хатой: оно состояло из двух крестьянских изб, разделенных сенями, в углублении которых была устроена крошечная кухонька. В каждой из этих изб было по одной комнате, разделенной перегородкой, не доходящей до потолка. Таким образом, в доме было две комнаты или четыре клетушки. Для обстановки своего нового жилья матушка взяла из Погорелого все, что было там ненужного и поломанного и за негодностью свалено в сарай. Всю эту мебель она приказала деревенскому плотнику скрепить и склеить, обставила ею свои новые четыре клетушки, и в такой убогой обстановке провела еще более четверти века до самой своей кончины. Она не только мирилась с этою обстановкою, но находила ее еще слишком хорошею для себя. В том, что она так убого устроилась на своем новом пепелище, когда имела полное нравственное право, даже без ущерба для семьи своего сына, обставить себя более комфортабельно, не только сказывалась ее привычка к простоте, но и врожденная гордость и некоторое тщеславие, которое, хотя она и скрывала, все же жило в ней. Оставшееся ей после смерти мужа жалкое, небольшое имение Погорелое, обремененное большими долгами, она превратила в благоустроенное поместье. Правда, она не увеличила размера его прикупкою новых земель, его величина оставалась приблизительно такою же, как была тогда, когда матушка принялась за хозяйство, но она более чем в два раза увеличила запашку, усилила производительность земли, запаслась надлежащим количеством скота, поддерживала необходимые сельскохозяйственные постройки, – одним словом, подняла ценность имения во много раз против прежнего. В тот момент, когда она поселила в этом имении своего женатого сына, оно вполне могло прокормить семью помещика, но, конечно, если бы только новый хозяин, как и матушка, продолжал отдавать хозяйству все свои силы и жил так же скромно, как и она.
Несмотря на то что, благодаря неусыпному труду матушки, хозяйство в Погорелом было доведено до прекрасного состояния, несмотря на закон, по которому она имела право получить из него свою вдовью часть, она отказалась от всего, ничего не взяла из его амбаров, наполненных зерном, ни со скотного двора, чтобы начать новое хозяйство в Бухонове. Она работала только для детей, и из нажитого ею для них она не хотела ничем пользоваться для себя лично. В Бухонове она продолжала работать так же неутомимо, как и в Погорелом, чтобы отблагодарить своего брата за его доверие и доброту к ней. Программа ее жизни в будущем состояла в том, чтобы и в Бухонове ничем не пользоваться в имении, а только скромно поддерживать им свое существование. Она имела в виду прежде всего увеличить ценность братниного имения и достигла этого вполне.
Однако редкое бескорыстие, справедливое отношение как к помещикам, так и к крестьянам, уменье беспристрастно улаживать ссоры и недоразумения соседей, когда те прибегали к ее содействию, что случалось весьма нередко ввиду глубокого уважения, приобретенного ею, наконец, даже преклонение перед идеалами шестидесятых годов и искреннее сочувствие освобождению крестьян, – ничто не мешало ей, хотя и несравненно реже, чем прежде, все же проявлять иногда чисто крепостнический произвол по отношению к родным детям, несмотря на то что те уже выросли, а некоторые из них имели даже собственных детей. До конца своих дней сохранила матушка безумную любовь к своему первенцу, которая, когда дело касалось его интересов, заставляла ее быть весьма несправедливою к остальным своим детям.
Один почтенный человек, любимый всеми членами моей семьи, питавший к матушке глубочайшее уважение и прекрасно знавший, как та и другая черта ее характера подчас тяжело отзывались на нас, ее детях, обыкновенно говаривал нам:
– Ведь не будь этого, Александра Степановна по своей жизни и по своему достойному поведению могла бы считаться святою… Недаром она сама так часто повторяет: «Один бог без греха!»
Нужно заметить, что проявлению произвола ее родительской власти мы, ее дети, отчасти помогали сами, так как даже те из нас, которые, по обычному выражению матушки, «фордыбачили», то есть смело говорили ей в глаза то, что, по ее мнению, обязаны были оставлять про себя, все-таки исполняли почти все ее требования, если даже они шли вразрез с собственными нашими желаниями. Это, вероятно, можно объяснить тем, что, несмотря на наши современные взгляды, прежние навыки, из числа которых подчинение родительскому авторитету занимало первое место, были прочно привиты нам. К тому же у матушки, пока она окончательно не одряхлела, были на редкость сильный характер и твердая воля, и противиться ей мы были не в силах.
Одним из наиболее поразительных актов ее самоуправства и несправедливости по отношению к взрослым детям был раздел нашего достояния в конце 1861 года. Она решила разделить наше родовое имение не по закону, существующему в России, а по своему усмотрению.
Такое желание явилось у нее потому, что своему любимому сыну Андрею она желала передать в полную и неотъемлемую собственность все наше родовое достояние вместе с домом и со всею землею. При этом она не задумывалась даже над тем, что такими же законными наследниками родового имения, как старший ее сын Андрей, оказывались и другой ее сын Захар, и нас три сестры, из которых я не была еще совершеннолетней, а во время этого раздела сидела на школьной скамейке. Моя старшая сестра H юта только что разошлась навсегда с мужем по второму браку и осталась без всяких средств к жизни с невозвратно погибшим здоровьем; сестра же Саша жила в губернском городе Смоленске и существовала исключительно частными уроками.
По мнению матушки, ее сыну Заре не следовало вовсе являться сонаследником при разделе родового имущества, так как он владел имением, доставшимся ему по завещанию от дяди Макса. Но это имение, состоявшее из двухсот десятин чересполосной земли, представляло или болото, или значительные земельные участки, давно остававшиеся без обработки. Незадолго до раздела нашего родового имения матушка по просьбе Зари предлагала вновь поселившемуся в тех краях помещику, желавшему расширить свое владение, купить землю ее сына всего-навсего за 500 рублей, но он давал лишь половину, – и продажа не состоялась.
Итак, несмотря на то что матушка прекрасно знала ничтожную ценность Зариного наследства, она находила, что раз он владеет, хотя незначительным, имением, он не имеет уже нравственного права стремиться к получению своей законной части из родового поместья. Эту мысль, как и другие свои взгляды на право наследства, она впервые высказала во время оригинального дележа нашего родового имущества, произведенного ею непосредственно, без участия посторонних лиц, а тем более каких бы то ни было судейских властей.
Единственным наследником родового поместья, доказывала она, должен быть Андрюша и потому, что он уже живет в этом имении, которое она не желает дробить на части; наконец, он, Андрюша, один из всех ее детей женат, имеет собственную семью и может немедленно приняться за хозяйство, что было крайне необходимо. Заре ничего не нужно из Погорелого, убеждала она, так как он получил место с вполне достаточным для его потребностей вознаграждением.
Матушка совсем не принимала в расчет ни того, что заря всегда мог жениться, ни того, что он был человеком крайне вспыльчивым, безукоризненно честным и принципиальным, – следовательно, легко мог потерять место.
По объяснению матушки, в деле раздела родового имущества она не желала поступать по писаным законам, потому что лучше всех законов в мире знает, кому из ее детей что нужно. При этом она прибавляла, что глубоко убеждена в том, что ее дети дадут честное слово свято подчиниться ее воле, не откажутся и впоследствии, когда я, младшая в семье, приду в совершеннолетие, без взаимных споров и дрязг подписать надлежащие бумаги; она твердо верила в это, потому что «она ведь давала своим детям не рыночное воспитание, и они вышли людьми образованными». Так рассчитывала она и на том основании, что Погорелое создано ею из ничего, следовательно, это имение – ее собственность, плод ее трудов, а приобретенное своим трудом каждый может отдать кому пожелает.
Матушка правильно поняла характер своих детей: ни у кого из них не явилось и мысли оспаривать ее волю; хотя на этот раз она поступила с ужасающей несправедливостью и вызвала с их стороны кое-какие неприятные для себя возражения, тем не менее ее желание было свято выполнено.
Расскажу по порядку, как произошло это замечательное семейное событие; я в это время находилась еще в стенах института и узнала о нем от присутствовавших уже после того, как возвратилась в наш родовой дом.
Брат Заря нашел нужным со всеми подробностями ознакомить меня с тем, как происходило это дело, отчасти потому, что я все равно от кого-нибудь услышу о нем, оно могло дойти до меня в искаженном виде, и я могла получить неправильное понятие о роли как его, Зари, так и остальных членов нашей семьи при этом дележе. Но прежде всего он решился все рассказать мне для того, чтобы этот поступок матушки не заставил меня когда-нибудь осуждать ее за него.
– Правда, она поступила весьма несправедливо, – говорил Заря, – но у нас всех, ее детей, несравненно больше недостатков, чем у нее, к тому же мы не должны забывать, что она всю жизнь билась для нас как рыба об лед, и то, какие тяжкие лишения вынесла она, чтобы только поставить нас на ноги.
Чтобы как-нибудь невольно не пропустить чего-нибудь существенного при передаче мне этого дела, он просил Нюту присутствовать при его рассказе.
Мои братья и Саша (сестра Нюта жила в это время с матушкою) получили однажды письма от нее с просьбою приехать к ней к такому-то дню, с упоминанием, что она зовет их для переговоров о разделе нашего родового имущества; она не сообщала при этом никаких подробностей, хотя раньше об этом никому ничего не говорила.
Когда сестра Саша получила такое письмо, она немедленно отвечала, что приехать никак не может, так как это равносильно было бы потере всех уроков, к тому же она раз навсегда заявляет, что решительно ничего не желает получать из родового достояния: до сих пор кормилась своим трудом, так же надеется прокормить себя и в будущем. При этом она просит матушку распорядиться ее частью, как это она найдет наиболее справедливым. Это письмо матушка прочитала вслух, когда мой брат Андрей, сестра Нюта и Заря находились в сборе в назначенный ею день. Несмотря на то что Заря явился самолично, он, выслушав письмо Саши, вынул и передал матушке и свое собственное письмо к ней.
Получив от матушки приглашение явиться к ней, чтобы потолковать о разделе семейного имущества, Заря предполагал, что дела по службе не дозволят ему исполнить это требование, а потому и отвечал письмом, но затем, неожиданно для себя, получил возможность явиться лично. Следовательно, в ту минуту, когда Заря письменно высказывал матушке свой взгляд на раздел имения, он не знал еще, что устранен ею от наследства. И его письмо тоже матушка прочла вслух. В нем Заря не только отказывался от своей законной части в Погорелом в пользу трех своих сестер, но не желал получать даже арендную плату за землю, оставшуюся ему в наследство от дяди, и просил ежегодно передавать ее своей кормилице, семья которой жила тогда в страшной бедности.
Прочитав письмо Зари, матушка от волнения долго не могла произнести ни слова. Наконец она сказала:
– Да, вы пошли в отца! Он бы гордился вами!.. Но я не желаю, Заря, дать тебе право распоряжаться хотя бы и твоею законною частью. Я решила все имение передать Андрею – он больше всех вас нуждается в нем. А вам остальным никакого наследства не нужно: ты и Саша имеете прекрасные заработки, Нюта будет жить со мною, Лиза после окончания курса тоже может поселиться у меня или в семье Андрюши, а не захочет жить ни здесь, ни там, – пусть идет трудовою дорогой. Ясно, что имение нужно только Андрею. Тем не менее я поставлю ему в обязанность, чтобы он сестрам в продолжение трех лет выплатил Две тысячи сто рублей, то есть дал бы каждой из них по семьсот рублей.
На это Заря возразил ей, что наши законы безобразны прежде всего потому, что обездоливают самых слабых, то есть женщин, а львиную часть наследства отдают в рук! мужчин.
– Вы же, маменька, обездоливаете ваших дочерей гораздо больше, чем это делает закон. Даже и при моем участии в наследстве, каждая из них по закону могла бы получить вдвое больше, если бы только их достояние перевести на деньги, а моя часть, разделенная между ними, могла бы удвоить их маленький капитал, вы же обязываете брата Андрея, который, согласно вашей воле, один получает все родовое имущество, выделить сестрам лишь по семьсот рублей каждой, да и то в продолжение трех лет.
– Если ты недоволен моим решением, имеешь законное право не подчиняться ему. С помощью полиции ты можешь даже выгнать своего родного брата с семьею просто на улицу, так как он без твоего дозволения поселился в родительском доме.
– Я не заслужил от вас такого тяжкого оскорбления! Мне горько, что вы обижаете сестер, самовольно распоряжаетесь участью даже младшей сестры, еще несовершеннолетней. Вы, наконец, забываете и то, что вместе с вами над созданием Погорелого трудилась и сестра Саша, отдававшая в имение все свои трудовые гроши. Недаром же она преждевременно состарилась и уже теперь выглядит старухой; Нюта же работать не может и осталась без средств. Из моего письма вы узнали, что я не претендую на наследство, что я отказался от родового достояния, но за сестер мне очень обидно… Я нисколько не сомневаюсь в том, что вы сами пожалеете о вашем распоряжении, сами будете страдать из-за вашей несправедливости.
– Ну, господин проповедник, кончили вы вашу речь? Я тебе вот что скажу, милый друг: не страдай ты ни за меня, ни за сестер. Мне нужно знать только одно: желаешь ли ты подчиниться моему решению или нет?
– Должен сознаться, маменька, – мне стыдно и больно разыгрывать роль Пилата… Извольте… подчиняюсь…
И Заря вышел и приказал закладывать лошадей. Однако должен был снова войти в комнату, где в ту минуту сидели матушка и Нюта. Хотя она тоже подчинилась требованию матери, но, издавна затаив злобу против нее за насильно навязанный ей брак, она всю свою последующую жизнь то и дело срывала сердце, разражаясь упреками по ее адресу, чему содействовали как ужасающие несчастия, продолжавшие преследовать ее, так и недостаток образования и ее крайне нервное состояние.
Когда Заря вошел в комнату, Нюта запальчиво выговаривала матери:
– Для своего любимчика вы готовы с остальных ваших детей снять последнюю рубашку! Вы для него всю жизнь обирали Сашу, отдавали ее, как простую батрачку, то на одно, то на другое место, иной раз для того только, чтобы выплачивать его карточные долги… Вы не стыдитесь распоряжаться даже состоянием вашей младшей дочери, которая не может ничего сказать и ничего еще не понимает в делах. Вы не стыдитесь…
Матушка перебила ее:
– Я все тебе прощаю: ты жалкое существо… ты мой крест!.. Ты мстишь мне за твой первый брак… я виновата, конечно… Но во второй раз ты вышла замуж по собственной воле, по страстной любви… И что же? Ведь, пожалуй, не лучше?
Но тут обе они так разрыдались, что выбежали из комнаты одна за другою.
После смерти сумасшедшего Савельева, первого мужа Нюты, она сделалась крайне болезненной и нервной. Прошло уже четыре года после его смерти, а она не поправлялась и по месяцам больная лежала в постели. В то время в Калуге жила наша кузина, известившая сестру, что в их городе недавно поселился новый доктор – Лаговский; он лечит чрезвычайно удачно, и сам по себе человек весьма образованный и симпатичный, приобрел большую практику и пользуется необыкновенною любовью своих пациентов. Кузина приглашала Нюту поселиться у нее и полечиться. Сестра воспользовалась ее приглашением: в деревне ей все опостылело, все напоминало несчастную жизнь с ненавистным мужем, и притом она вела с матушкою однообразную, тоскливую, уединенную жизнь. Матушка вся была поглощена хозяйством, а Нюта проводила весь день одна в большом пустом доме.
Лечение Лаговского действительно пошло очень успешно: сестра стала заметно поправляться. Не прошло и года, как доктор и пациентка влюбились друг в друга. Нюте в то время было года двадцать три, и хотя ее редкая красота была растрачена в первом браке, но она все-таки, как мне говорили, была тогда еще очень недурна. Нюта знала, что Лаговский пьет, но надеялась, что это пройдет с женитьбою, как он в этом клятвенно заверял ее, и согласилась быть его женою.







