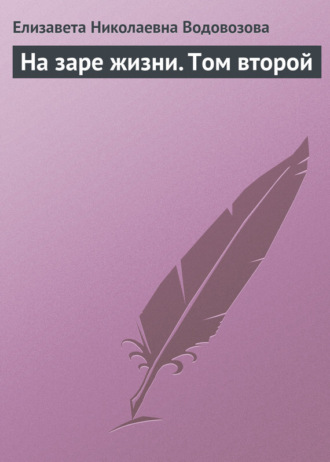
Елизавета Водовозова
На заре жизни. Том второй
– Вы очень комичны и навязчивы, господин экзаменатор!
– Тут нечего злиться. Когда вы чему-нибудь путному научитесь, старайтесь не хранить это только про себя… Если же вам вдолбили какую-нибудь глупую теорию или неправильное понятие, пользуйтесь случаем, чтобы избавиться от вздора.
Меня все более смешила его манера держать себя, говорить и поучать, но высказанная им мысль казалась мне правильною и серьезной.
– Почему же вы думаете, что я не умею отличить добра от зла? Я, вероятно, не хуже вас знаю, что понятия об истине и лжи, о добре и красоте, о высоком и низком – вечны, как божий мир, и во все времена будут и были одни и те же.
– Вот и оказывается, что у вас ерунда в голове! Так слушайте же и зарубите себе на носу: понятия и взгляды на нравственность меняются сообразно с духом времени, а вовсе не уподобляются каменным глыбам. Я вам сейчас поясню примером: прежде драли крестьян розгами и плетьми, брали взятки, родители насильно выдавали дочерей замуж за богатых, – и все находили это в порядке вещей, считали добрым и хорошим то, на что теперь каждый культурный человек смотрит с отвращением.
Теперь уже более, чем его резкими выражениями, я была уязвлена тем, что и этот, как мне казалось в ту минуту, не крупного полета юнец мог так отбрить меня. Переконфуженная до невероятности, я отправилась слушать разговоры в соседнюю комнату, куда шли и другие.
– Так вы думаете, батенька, присоседиться к государственному пирогу? – укоризненно говорил медик Прохоров своему земляку, молодому человеку по фамилии Кондратенко, недавно окончившему университетский курс.
«Что это за „государственный пирог“? Что может означать подобное выражение?» – ломала я себе голову. Меня приводило в отчаяние, что такая масса слов, выражений и понятий были недоступны мне даже в простом разговоре.
– Что же делать, – было ему ответом, – если помимо службы я ничем другим не могу обеспечить существование моей семьи! Я не одарен никакими талантами, во мне нет и способностей для того, чтобы заниматься какою-нибудь свободною профессиею: я не могу быть ни ученым, ни профессором, ни художником, ни артистом, ни писателем. Уроки, которые давали мне возможность существовать хотя кое-как, и те кончаются, и я остаюсь без всяких средств, а между тем мне подвертывается чиновничье место…
– Полно вам, Кондратенко, вздор городить, – возражал ему медик Прохоров, молодой человек лет двадцати трех, брюнет, с черными глазами и весьма решительным видом. – Ведь только тот, у кого нет никакой энергии, никакой инициативы, никакого чувства собственного достоинства, никакого сознания того, что наступили новые времена, когда каждый обязан ворочать собственными мозгами, не может взять себя в руки, – одним словом, только жалкому сопляку приходится теперь ходить на помочах какого-нибудь директора департамента, тухнуть в канцелярии и заниматься никому не нужным бумагомаранием.
– И я нахожу, что при ваших способностях и при вашем образовании просто преступно идти по старой дорожке, проторенной нашими тятеньками. Я, как и ваш земляк, тоже был лучшего о вас мнения.
– Молодое поколение обязано отыскивать новые пути, соответствующие новым современным требованиям! – кричали ему на разные лады.
– Очень возможно, что это только минутная слабость! Ведь иному трудно сразу сбросить с себя ветхого человека.
– Теперь, Кондратенко, нужно крепко держать себя в руках. Чтобы жить и бороться в настоящее время, нужны люди со стальными нервами, с определенно обоснованными принципами…
– А главное, необходимо прежде всего выяснить, зачем живешь, по какой дороге пойдешь, что будешь преследовать в жизни…
– Может быть, Кондратенко говорит все это с целью узнать, как к этому отнесутся люди нашего круга?.. А возможно, что он делает это с целью открыто заявить нам, что с этих пор он не имеет больше ничего общего с идеалами, дорогими для всех нас? У вас, Кондратенко, может быть, где-нибудь в глубине вашей души есть маленький расчетец на то, что раз вы смело заявляете нам такие ужасные вещи, У нас не хватит храбрости в глаза осудить вас?
– Когда вы окончите обливать меня грязью, когда вы исчерпаете все ваши нравоучения, ругань и низкие подозрения, – я сразу отвечу всем вам. Я вижу, что еще «Смерч» горит нетерпением обличить меня… Хотя это будет перефразировка уже сказанного, но, сделайте одолжение, говорите и вы, – не то с горечью, не то с сарказмом произнес Кондратенко, бледный как полотно.
– Напрасно, Кондратенко, вы вносите сюда столько раздражения. «Ты сердишься, Юпитер, – значит, ты не прав!» Обязанность человека нашего круга – высказывать товарищам все без утайки и фальши… – ораторствовал «Смерч», по-видимому ничуть не задетый саркастическим замечанием по его адресу. – Мы собираемся здесь не для светской болтовни и презираем тех, кто в глаза говорит одно, а за глаза – другое, как это было в обычае у наших родителей, когда у них сходились обжираться кулебяками и разносолами и для пищеварения беседовали с знакомыми! Ваше желание, Кондратенко, сделаться чиновником показывает, что вы игнорируете одно из главнейших требовании молодого поколения – разрывать с прошлого жизнью, с ее обычаями и укладом, с понятиями наших отцов. Мы, молодая Россия, обязаны повергать во прах старые идолы и разрушать старые храмы, чтобы на их развалинах создавать новую жизнь, и эта новая жизнь ничего не должна иметь общего с жизнью старого поколения. Мы всегда должны твердо идти по новой дороге, брать на себя только такую деятельность, которая приносила бы пользу ближнему, а если ее нельзя найти, – создать новую. Конечно, нам предстоит отчаянная борьба с реакционерами, с предрассудками, с своим собственным страхом перед всем новым даже, как это ни странно, с собственным индифферентизмом к общественной деятельности, что так основательно внедрили в нас наши милые папаши и мамаши… Вы упомянули, Кондратенко, что у вас семья… Я не хочу верить, что вы женились из-за прихоти пошляка мужчины. Вы, конечно, выбрали себе такую жену, с которою можете идти рука об руку в общественном деле. В таком случае ваша жена будет помогать вам создавать новую общественную деятельность…
При последних словах Очковская быстро выдвинулась вперед.
– Позвольте, Ольга Николаевна, – запротестовал Кондратенко, – очередь за мною. Я задержу недолго. Я должен сказать вам, господа, что, к сожалению, ничего не мог почерпнуть для себя полезного из ваших речей… У меня примеры на глазах, как сушит, убивает человека чиновничья карьера, и я делал все, чтобы избежать ее. Изобрести для себя новую деятельность гораздо легче на словах, чем на деле. Если я так думаю вследствие умственной тупости и убожества, умоляю вас, придумайте для меня какую-нибудь деятельность вне государственной службы, и если она даже будет очень скромно обеспечивать существование моей семьи, я вам даю слово никогда не сделаться чиновником…
– Как это неделикатно сваливать свои заботы на чужие плечи!.. – кричали ему на разные лады.
– Можете себе представить, ведь Кондратенко уже ушел… – заявил кто-то через несколько минут.
– Ну и черт с ним! – раздалось в толпе.
– Вы знаете его адрес? – спрашивал Слепцов у какой-то дамы и под ее диктовку записывал его в свою книжку.
– Где нужда, там и Василий Алексеевич! – зашептала Таня, наклоняясь ко мне. – Вот попомни мое слово: он завтра же обегает весь город и что-нибудь добудет для Кондратенка… Это самый великодушный, самый чудный из всех наших знакомых.
В это время Веруся, обращаясь к своим гостям, говорила чрезвычайно взволнованно:
– Конечно, вы должны были сказать ему все, чтобы удержать его от чиновничьей карьеры. Но вы говорили с ним как-то безжалостно! Не знаю, как выразиться… как-то совсем нехорошо. Ему самому, видно, все это так тяжело! А у вас не нашлось ни слова участия к нему! Мы должны были сообща помочь ему отыскать новый труд, а если бы это оказалось невозможным, мы обязаны из своих заработков собирать известную сумму и поддерживать его до тех пор, пока он не найдет для себя деятельности, которую мы все могли бы одобрить. А это что же? Руганью и низкими подозрениями выгнать человека из дома! Это ужасно, это просто даже позорно! Если бы вы знали, какие это славные, очень славные люди оба Кондратенко – муж и жена! Мы должны прийти к ним на помощь! Ведь мы же составляем тесный кружок людей единомыслящих, следовательно, должны быть более близки между собой, чем даже родные по крови, – мы родные по духу!.. Это выше, святее и более ответственно, чем родство по крови!
Все как-то притихли, точно пристыженные этими словами. В эту минуту Очковская положила мне руку на плечо, и мы начали прогуливаться с нею. Вдруг из открытой двери маленькой комнаты, заставленной мебелью и шкапами вследствие вечеринки, раздался голос Слепцова:
– Так, пожалуйста, повидайтесь же с ним… ведь директора получают всевозможные запросы из провинции, наконец, он может направить вас к кому-нибудь другому. Имейте в виду, что Кондратенко кончил университетский курс, что он человек с серьезными знаниями, и вашему директору не грех похлопотать за него. Поскорее же известите меня о результате свидания…
– Какое впечатление производит на вас Слепцов? – спросила меня Очковская, когда я вошла с нею в другую комнату.
– Он красив, очень красив… только лицо у него какое-то неподвижное, точно маска…
– Несмотря на его замечательную красоту, меня долги расхолаживала неподвижность его лица, но я начиная убеждаться, что он надевает эту маску умышленно, чтобы скрывать величие своей души.
– Что же вы тут прячетесь, Ольга Николаевна? – заговорил Николай Петрович, подходя к нам. – Я уже заявил публике, что вы хотите поставить на обсуждении кое-какие вопросы. Слышите? Вас зовут!
И действительно, из большой комнаты раздавалися страшный шум, топот ног и крики:
– Очковская, Очковская!
– А я расхотела говорить… – сказала Очковская, не двигаясь с места. – У меня уже улетучилось все, что я собиралась сказать…
– Ручаюсь, вам стоит только рот открыть, и на помощи вам явятся и огонь в крови, и пламень в груди… Да идите же!
– Каждая дама в таком случае всегда любит поломаться!.. – бросил Слепцов, проходя мимо нас.
– Неправда! – с досадой крикнула ему вслед Очковская, и его слова точно пришпорили ее: она быстро вошла в большую комнату. Публика из кожи лезла, чтобы представить настоящий раек театра: кричала, топала ногами, вызывала Очковскую на все лады, а когда та появилась, аплодировала, сколько хватало сил. Ольга Николаевна прижимала руку к сердцу, делала реверансы, раскланивалась по-театральному, но, как только начала говорить, сделалась серьезною, с каждым словом все более увлекаясь.
– Я хочу поговорить насчет последних слов «Смерча». Он и очень многие из вас утверждают, что жену должно прежде всего выбирать для того, чтобы иметь возможность работать вместе с нею для общественной пользы… Следовательно, вы ищете в браке только пользы и выгоды для ближнего, а я нахожу, что вступать в него следует не с утилитарными целями, а только по взаимной страстной любви.
– Ерунда! абсурд! – кричали со всех сторон.
– Оказывается, – с запальчивостью перебила их Очковская, – что вы не понимаете, что такое свобода слова, а еще называете себя «молодою Россиею», «молодым поколением», «носителями прогрессивных начал и идеалов»! Прежде выслушайте, а потом хотя камнями побивайте…
– Вы знаете, – тягуче и с ненужной обстоятельностью заговорила Сычова, – что камнями вас никто не собирается побивать, но после таких слов в порядочном доме вам не протянули бы руки.
– Убирайтесь вы в ваш порядочный дом! – закричала ей Вера во все горло.
– Ведь и пошлость имеет свои границы… – резко возразил Ваховский, в упор глядя на Сычову. Но та не сконфузилась, не тронулась с места и, хотя на нее все поглядывали, кто с гримасою, кто с насмешкою, продолжала брюзжать:
– Смазливая девчонка, вот за нее и готовы каждому горло перервать!..
– Продолжайте же, Ольга Николаевна, а госпожа Сычова в это время приготовит для вас новый камень, но не из особенно смертоносных, – заметил Слепцов.
– Видите ли, – заговорила Очковская, – я все более чувствую, господа, что мои взгляды расходятся с вашими. Мне уже давно стало казаться, что я воровски пользуюсь вашим добрым отношением ко мне. Вот это-то и заставляет меня откровенно раскрыть перед вами мой символ веры. Начну с моего прошлого: до девятнадцати лет я прожила в полном довольстве. Меня обожали родители; хотя они имеют хорошие средства, но богачами их нельзя считать, а между тем они исполняли не только все мои желания, но, с их точки зрения, даже прихоти: выписывали журналы и книги, какие только я просила, позволяли брать уроки у дорогих учителей, хотя находили, что я достаточно всему обучена, так как выучили меня четырем иностранным языкам. Говорю об этом для того, чтобы показать, как они всегда считались с моими желаниями, хотя очень часто не могли сочувствовать им. Дозволили они мне брать уроки и у Николая Петровича Ваховского, когда он появился в нашем городе. Уже ранее, чем я начала занятия с ним, мне стала претить провинциальная жизнь, мое положение сонной царевны в сонном царстве, а тут под влиянием Николая Петровича мне окончательно опостылела такая жизнь, и на этой почве у меня то и дело начали являться размолвки с родителями. Как раз в это время у меня явился жених, богатый, молодой, образованный, даже красивый. Я находила его весьма порядочным человеком, и, если бы я сказала ему: «Будем работать для блага ближнего, устроим школу, больницу», он, несомненно, на все согласился бы, но я не чувствовала к нему страстной любви и отказала ему. Родители были крайне возмущены. Они находили, что У него все, о чем может мечтать девушка: молодость, красота, богатство. Последнее, по их мнению, важно было для меня потому, что почти все их состояние после смерти Должно перейти в руки моих братьев. Как только я отказала блестящему жениху, так отношения с родителями обострились: между нами явилось какое-то взаимное озлобление. Если бы я ограничилась отказом жениху, мои родители, вероятно, со временем примирились бы с этим, но не знаю, что со мною сделалось. Точно кто-то толкал меня говорить им резкости и безжалостные вещи, я точно мстила им за то, что они осмелились желать этого брака. Но все это я сообразила впоследствии, а в то время во всей считала себя правою. Кончилось тем, что я разошлась с родителями и уехала в Петербург. Если бы вы знали, как у меня до сих пор обливается сердце кровью, как мне ни достает их ласки, забот, как я убиваюсь из-за того, что поступила с ними жестоко и несправедливо. Видите ли я и в этом сильно расхожусь с вами. А мои воззрения на брак диаметрально противоположны вашим. Как это ни странно, но ваши взгляды, по крайней мере тех из вас которые говорили со мною об этом, сильно совпадают со взглядами моих родителей, но у вас они, конечно, более общественного характера. Расчет на выгоду как у вас, так и у них, а мне он одинаково противен. Считаю своею обязанностью заявить вам, что в браке я буду руководиться не общественными соображениями, а исключительно моими личными чувствами. Моим мужем будет только тот, кто заставит биться мое сердце от радости и счастья. Вот какая разница между вашими и моими взглядами. Вы заботитесь только о благе ближнего, а я, презренная эгоистка, прежде всего для себя мучительно хочу личного счастья. Должна сознаться, что в этих мечтах я то и дело забываю о ближних… В этом я оправдываю себя в собственных глазах тем, что только любовь, одна любовь может дать женщине настоящее нравственное удовлетворение, делает ее лучше, более доступною великодушию. С моей точки зрения, только брак по страсти может дать женщине настоящую энергию для общественного служения, только он один даст ей возможность приносить истинную пользу ближнему. А когда в браке руководятся не страстью и любовью, а даже возвышенным расчетом, женщина не получит никакого счастья, следовательно, и никакого удовлетворения: понятно, что и ближнему, в таком случае, не будет никакой выгоды… Как антипатичны мне ваши взгляды на брак, так антипатичны мне и ваши взгляды на поэзию. Когда я раздумываю о них, вы представляетесь мне настоящими убийцами и палачами. Да вы и есть настоящие убийцы!.. Вы убиваете все грезы молодости, все лучшие мечты о счастье, всю поэзию жизни! Вы высмеиваете художественные произведения, искусство, а я… я обожаю все, что носит печать поэзии. Так вот какая пропасть лежит между вашими воззрениями и моими! Я все сказала: гоните меня из вашего круга!
Поднялась целая буря: одни кричали одно, другие – другое, многие поднимали руку вверх, показывая этим, что желают говорить, топали ногами, свистели, чтобы заставить себя выслушать, но, кроме отдельных выкриков, все слилось в беспорядочный хаос голосов. Наконец Ваховскому удалось энергично закричать:
– Я буду руководить прениями. Выступайте со своими возражениями в том порядке, в каком вы стоите в настоящую минуту. Господин медик, вам говорить первому…
– Вы, Очковская, сами прекрасно понимаете, что проповедуете культ узкого личного эгоизма. Если бы вы руководились стремлением к общественной пользе, с кой-какими вашими взглядами еще можно было бы помириться, но вы всюду на первом месте ставите удовлетворение личной страсти… И все это вы высказываете с таким пафосом, что можете даже людей, нетвердых в принципах, просто смутить…
– Все ваши страсти и любови, – задорно прокричал другой, – только рутина, старый хлам, который давно пора выбросить за борт!
– Конечно… конечно, – авторитетно подтвердил Прохоров, – художественные произведения, а тем более музыка, живопись, ваяние и вообще все искусство созданы только для богачей, для улучшения их пищеварения.
– Исключительно для барского самоуслаждения!
– И вы думаете, Очковская, что, поставив страсть во главу угла, вы открыли Америку? Ведь и до вас многие руководились такими же африканскими воззрениями.
– Люди, поженившиеся по страсти, драли, как и прочие, своих крепостных и предавались разврату на стороне!
– Дайте же мне, наконец, сказать… Слова прошу, слова… – силился перекричать других один из студентов, не в силах более ожидать своей очереди. – Видите ли, господа, вероятно, многим из вас казалось, что романтизм давно отжил свой век. Но если последовательницею его является такая прогрессивная особа, как Очковская, это означает, что он еще силен. Имейте же в виду, Очковская, что романтизм всегда питал только гнилые иллюзии и тянул русских барышень не к живой общественной деятельности, а к пуховику, вызывал лишь слезы при виде безвременно погибшего воробья.
– Да знавали ли вы, – перебил его другой, – людей поженившихся по страсти, которые не закисли бы, не отупели, не опошлились в этой узкоэгоистической, сентиментальной сфере чувств, которые бы шли вперед по пути прогресса, занимались просвещением, двигали науку вперед, улучшали бы жалкое положение мужика? Нет, тысячи раз нет!
– Смерть диким страстям и заоблачным парениям! – эти и подобные им замечания сыпались без промежутком часто даже двое и трое кричали зараз, и Ваховскому приходилось останавливать то одного, то другого словами: «Дай! те же сказать Иванову». – «Тарасов, – вам говорить».
Вдруг «Смерч», с глазами, налитыми кровью, начал внезапно и энергически проталкиваться через толпу.
– Не ваша очередь! – остановил его Ваховский.
– Входя в порядочный дом, – грубо отрезал ему «Смерч», – я не желаю иметь дело с городовыми и полицейскими; с благоговением и трепетом относиться к вашим распоряжениям и словам я тоже не желаю. Какой вы мастер руководить людьми, доказательство налицо – госпожа Очковская. Это вы вбили ей в голову такие гнусные взгляды и принципы! – И «Смерч» резко отстранил рукой Николая Петровича, подошел вплотную к Очковской и, свирепо уставившись в нее, взволнованно продекламировал:
Пускай ты верен назначенью,
Но легче ль родине твоей,
Где каждый предан поклоненью
Единой личности своей?
– С таким трагизмом и драматизмом, как вы, я не умею декламировать, но я могу лично вам ответить тем же Некрасовым:
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано.
– Это нехорошо. Это слишком зло для вас, мое прелестное дитя. – И с этими словами Николай Петрович схватил обе руки молодой девушки и поцеловал их.
Молодежь с хохотом кричала ему:
– Это что за допотопные нежности!
– Ах вы сентиментальный словесник, брехун!
– Как есть настоящий эстет!
– Хотя здесь не очень любят правду слушать, – опять завела свою машинку Сычова, – но поцелуи ручек, нежные эпитеты – все это до невероятности пошло и возмутительно. Я уже заметила, где только заведется смазливая девчонка, там она всегда понижает нравственный уровень.
– Почтеннейшая акушерка! – вдруг произнес «Экзаменатор», очутившийся подле нее. – Почтительнейше обращаю ваше внимание на то, что вы говорите в пространство. – И он указал ей рукою на публику, которая уже разбрелась по комнатам и разбилась на несколько групп.
– Во-первых, я не акушерка, а еще буду акушеркой, и очень горжусь этим, а во-вторых, я с вами разговаривать не хочу, – отрезала Сычова.
– А в-третьих ничего не будет? Пожалуйста, чтобы было и в-третьих. Вы не желаете? Тогда я сам выполню этот нумер!.. Так вот-с: хотя со взглядами госпожи Очковской я не вполне солидарен, но эпитет «смазливой», данный вами особе поразительной красоты, не согласен с правдою, которую вы сами так отстаиваете, и продиктован вам гнусным чувством, называемым завистью. Но это не мешает мне уважать вашу будущую профессию и с восторгом думать о моменте, когда вы у колыбели новорожденного человечества… – Он, видимо, желал прибавить еще что-то язвительное, но спохватился вовремя: саркастическая улыбка передернула его детское личико, он не выдержал, расхохотался и, как школьник, юркнул в сторону.
Николай Петрович долго пытался заговорить в кружке споривших, но общий говор заглушал его голос. Наконец ему удалось перекричать других:
– Не могу согласиться с вашими взглядами на художественные произведения. Вы забываете о том, что они возвышают и облагораживают душу. Если вы уничтожите их, вы низведете человека до скота. Вспомните Лира, который сказал…
– Это вымысел. Может быть, и красивый, но все-таки вымысел Шекспира. К тому же короли и бары всегда так рассуждали, всегда думали только о самоуслаждении в то время, когда народ пух от голода и прозябал в невежестве…
– А я вами недовольна, очень недовольна, мой дорогой, дорогой наставник, – выговаривала Очковская Ваховскому. – Неужели в защиту поэзии и искусства вы могли сказать только то, что сказали? Если бы я умела говорить, я бы сказала такую речь, такую, стены затрещали бы, и присутствующие покраснели бы от стыда, что отвергают такие великие дары неба. Да, уж доподлинно правда: «Бодливой корове бог рог не дает»!
– Как же говорить? Ведь я не подготовился к такой речи.
– Говорите экспромтом. Почему же вы не можете сказать речь в защиту ваших излюбленных художников слова?
– Словесники всегда говорят по тетрадочкам и записочкам!..
– Все эстеты – фразеры: такими фразами, как «облагораживают», «возвышают», они могут сыпать сколько угодно, но большего от них не ждите, – с хохотом кидали Ваховскому со всех сторон.
– У меня сердце разорвется от боли, если о вас будут говорить такое… – И Очковская дернула за руку Ваховского и толкнула его в центр круга.
Его симпатичное лицо вдруг приняло восторженное выражение, и он заговорил с большим одушевлением:
– Как можете вы, мечтающие об общественной пользе, об осуществлении высоких идеалов на земле, о самоотвержении, о борьбе с общим нашим врагом, повторяю, как можете именно вы отвергать великое значение наших писателей-художников? Отрицая жизненные удобства для того, чтобы свои силы, материальные и духовные, нести на алтарь общественной пользы, вы, молодое поколение, заслуживаете высокого уважения и подражания… Но ваше преклонение только перед тем, что полезно, доводит ваш утилитаризм до отрицания в человеке всех эстетических потребностей, вложенных природою в сердце человека: это уже преступление против духа святого. Живой интерес к художественным произведениям и искусству создает высокое духовное наслаждение, дает утешение, вытравляет мелочность, грубость, всякую накипь житейской пошлости, приносит забвение от забот, внушает каждому возвышеннейшие побуждения. Человек, не развивший в себе способности и уменья наслаждаться художественными произведениями, если только не сверхъестественно щедро одарен от природы, в громадном большинстве случаев – эгоист, сухое сердце, неспособное на великодушные поступки. Боже мой, разве можно отрицать великое значение художников слова! Они заставляют человека задумываться над такими явлениями жизни, которые обыкновенно проходят совершенно бесследно, они учат нас мыслить и любить своих ближних. Как в русской, так и в иностранной литературе немало произведений, в художественных образах изображающих людей той или другой эпохи с их радостью и горем, с их надеждами, разочарованиями и жизненною борьбою, – они дают нам представление о людях известной эпохи в более ярких, выпуклых образах, чем это могут сделать самые драгоценные исторические документы. Великий талант художника может изобразить человека столь возвышенно-благородной души, что его образ вечно будет носиться перед вашими духовными очами, и вы будете употреблять всевозможные усилия, чтобы достичь его нравственной красоты, или наоборот – в яркой картине покажет вам душевную пустоту, низость и пошлость с такою силой, что вы содрогнетесь от ужаса. Художественные произведения будят совесть и стыд как отдельных людей, так и целого общества, следовательно, поднимают его нравственный уровень. Молодые друзья! Вы, с безумным восторгом, какой дается только юным, чистым сердцам, рукоплескавшие падению крепостничества, забываете, что уничтожением этой страшной язвы, в корне развращавшей умы и сердца русских людей, вы прежде всего обязаны нашим художникам слова, которые, несмотря на цензурный гнет и жестокие кары, были вдохновенными провозвестниками воли. Всю мерзость крепостничества они наглядно, в художественных образах представляли нам и мало-помалу внедряли в умы сознание необходимости великой реформы. И вдруг вы, с такою страстью и энергиею бросившиеся в ряды истинных просветителей народа, развенчиваете Пушкина, который всю жизнь был вождем нашего просвещения, а между тем он, этот величайший из наших художников, должен остаться нашею гордостью до тех пор, пока русская речь будет раздаваться в пределах нашего отечества. Мои молодые друзья! Подумайте, откуда у вас взялись бы идеалы и стремления высшего порядка, если бы подходящей почвы для них не подготовляли своими произведениями они, наши великие художники? Постепенно меняя допотопные понятия ваших отцов и дедов, они в каждом новом поколении вырабатывали все более возвышенные взгляды, мысли, стремления. В конце концов это они произвели полный переворот во всем миросозерцании русских людей. Если из ваших рядов, господа, выйдут защитники прав человека, люди, сочувствующие страждущим и обремененным непосильным трудом, герои и борцы за правду, свободу и за лучшее будущее, то этим вы обязаны будете только великим художникам слова. Они, эти властители наших дум, творцы всего, что есть в нас лучшего, всегда учили нас стремиться к самопожертвованию, развивали сострадание и любовь к ближнему, заставляли нас отворачиваться от житейской грязи и обыденщины. Я твердо уверен, что нынешнее отрицание поэзии – простое недоразумение, что оно исчезнет, как дым. Это мое глубочайшее убеждение прежде всего зиждется на том, что вы, молодежь, отрицатели поэзии и искусства, несете во всей концы нашей родины, трепещущей в агонии нищеты, мрака, невежества, произвола и отчаяния, целый груз чудных поэтических надежд и великодушнейших стремлений, и сами вы скоро сознаетесь, кому вы обязаны своими благороднейшими порывами.
Раздался гром аплодисментов, а Ольга Николаевна, с детским восторгом схватив Ваховского за руки, начала кружиться с ним по комнате.
Петровский («Экзаменатор») в ту же минуту вскочил с своего места и запальчиво прокричал:
– Чернышевский, наиболее уважаемый из наших крупных современных писателей, определенно высказал, что произведения искусства не могут выдержать сравнения с живою действительностью, что жизнь прекраснее искусства… И вам, господин словесник, не вредно было бы это помнить…
– Конечно, – возражала Вера Корецкая, – мы не можем придавать такого значения художественным произведениям, какое придает им Николай Петрович. Мы также не отрицаем красоту и прекрасное, но стараемся отыскивать то и другое не в трелях соловья, не в вечернем звоне церковных колоколов, не в маленькой ножке кисейной барышни, а в том, что дает счастье трудящемуся люду, что расширяет его умственный кругозор, его права на свободу.
– Господин словесник, – заговорил медик Прохоров, – чересчур восторженно охарактеризовал писателей-художников: он опустил многие явления нашей жизни, еще более, чем художественные произведения, способствовавшие распространению общественных идеалов, но это вполне натурально в словеснике… Сознаюсь, однако, что он, хотя и односторонне, все же правильно сформулировал результаты их трудов. Наши писатели-художники вместе с другими явлениями жизни много способствовали изменению миросозерцания русских людей. Но необходимо иметь в виду, что Пушкин и другие художники все-таки прежде всего стремятся развивать любовь к красоте… Поймите же вы наконец, господин словесник, что теперь не время с этим возиться… Не забывайте, что Россия
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.
Так вот-с, милейший Николай Петрович, знайте же, что не чувству красоты нужно теперь обучать, а возбуждать ненависть к рутине, злу, лихоимству. Пусть ваши писатели-художники обличают теперь зло, царящее у нас, пусть учат не подличать, не подлаживаться, не пресмыкаться перед сильными мира сего…
Николай Петрович прерывает его криком:
– Они всегда учили и учат этому.
Прохоров не обращает на это внимания и продолжает:
– Да-с… так пусть же эти ваши художники слова занимаются теперь не опоэтизированием красоток у фонтанов, цветков да облачков… да-с, пусть с этим маленько пообождут… Те из них, которые не желают расстаться с подобными сюжетцами, пусть отойдут в сторонку, их песенка спета… Очередь за нами. Да-с, за нами, не художниками, а людьми дела и прозы. Мы, а не они, должны начать переворот в действительной жизни.







