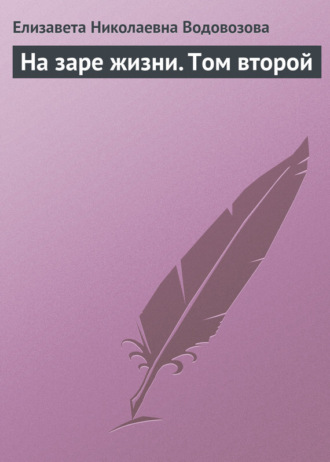
Елизавета Водовозова
На заре жизни. Том второй
– Тебя оскорбили слова этого юнца? – подбегая ко мне и обнимая, спрашивала Таня.
– Да нет же: ее смутили замечания Сычовой, которая на всех шипит, как змея, – говорила Веруся.
Но я уверила их честным словом, что, хотя меня в первую минуту действительно покоробили замечания этих двух личностей, но я тут же увидала, что все их посетители всё высказывают в лицо друг другу, и нахожу, что это несравненно лучше, чем лицемерие, которое я встретила в светском кругу. Я повторяла «сестрам», что плачу от счастья: их приглашение дало мне возможность получить хотя некоторое представление о молодом поколении.
– Они все горят таким желанием приносить пользу народу, обществу!.. Скажите мне откровенно, как вы думаете… это не одни только слова? Они на самом деле все такие хорошие?
– Я, конечно, не знаю, все ли они на самом деле окажутся такими, как на словах… А вот Слепцов… – начала Таня, но Вера резко оборвала ее.
– Ты вечно со своим Слепцовым. Для тебя только и свету, что в этом окошке. Не он один хороший человек. Для примера возьму хотя бы Петровского, которого у нас прозвали «Экзаменатором»… Это фигура действительно несколько комичная. Мне самой приходило в голову, что он фразер. Между тем его товарищи говорят, что он удивительно великодушный человек, что у него слово не расходится с делом, что это натура на редкость общественная… Я нисколько не сомневаюсь в том, что и остальные не окажутся пустыми болтунами. Мы, члены нашего кружка, будем крепко держаться друг друга, обязаны поддерживать шатающихся… Я уверена, что все, кого ты тут видела, может быть, кроме небольших исключений, будут отдавать свои силы на служение обществу и народу…
Ту же непоколебимую веру в людей, которые ее окружали, Вера вселила и в меня. Какая-то неизведанная до тех пор радость наполняла все мое существо. В первый раз в жизни я с невыразимым восторгом думала о том, как интересно жить на свете. Мой ум и сердце представляли тогда tabula rasa[10], на которой можно было написать если не все, что угодно, то, во всяком случае, очень многое. Вследствие уже пробужденного во мне интереса ко всему живому, почти все, что я слышала в тот вечер, казалось мне глубоким, значительным и важным. Некоторые теории и взгляды молодежи меня как-то волновали, другие – просто очаровывали, и все, о чем они говорили и спорили, даже то, с чем я совсем не могла согласиться, все же шевелило мой мозг, заставляло серьезно думать, побуждало читать, много читать и учиться, – одним словом, в умственном отношении толкало меня вперед. Не могу скрыть, что мне в то же время то и дело вспоминались выражения, которые так часто срывались с уст молодежи: «ерунда», «наплевать», «свинство», «к черту», и они порядочно-таки шокировали меня; не нравился мне и фамильярно-грубоватый тон их, но я тут же повторяла себе, что все это лишь внешняя сторона, что она у людей светских превосходно отшлифована, а между тем их разговоры не будят мысли, ничего не дают для умственного и нравственного развития. И меня с непреодолимою силой потянуло исключительно! в среду людей трудящихся, живущих для водворения на земле свободы, высшей правды и всеобщего счастья. Я не задавалась вопросом, как они будут водворять счастье, свободу и равенство на земле, но надежда, что они когда-нибудь и меня зачислят в свой круг, что и я вместе с ними буду делать «великое дело», заставляла трепетать od восторга мое юное сердце.
Глава XVI
Среди петербургской молодежи шестидесятых годов
Воспитание Зины. – Занятия и лекции. – Увлечение естественными науками. – Воскресная школа и занятия в ней Помяловского. – Учительский кружок
Когда на другой день после вечеринки я встала с постели, кроме кухарки уже никого не было дома. Сестры, проспав несколько часов, ушли на уроки, захватив с собою Зину, чтобы отвести ее в знакомое семейство, где ей приходилось оставаться до их возвращения. Настоящие «детские сады» возникли позже, но в то время, о котором я говорю, несколько семейств, знакомых между собою, устраивали нечто вроде учреждений подобного рода. Матери, жившие поблизости друг от друга, приводили своих детей в знакомый дом, где они оставались в продолжение нескольких часов под присмотром либо одной из них, либо учительницы, нанятой родителями сообща. Обучение вполне соответствовало воззрениям того времени: требовалось, чтобы оно было жизненным и реальным, то есть, с одной стороны, его фундаментом должно было бы быть естествоведение, с другой – знакомство с народом и трудящимся людом вообще. Отличаться от образования взрослых оно могло лишь тем, что для детей необходимо было давать все в самом элементарном виде. Но это далеко не всегда соблюдалось: детям показывали скелеты человека и зверей, а случалось, что при них, как и при взрослых, резали лягушек и кроликов. Воспитательница не должна была пропускать на прогулке ни одного лудильщика, кузнеца, сургучника, стекольщика, сапожника и водить детей в их мастерские, показывать им обстановку и орудия производства этих рабочих. Принято было водить детей на постройку новых жилищ, заходить с ними в подвалы, а если дети были постарше, то показывать им заводы и фабрики. При всех этих экскурсиях необходимо было при детях расспрашивать рабочих об их заработке, жизни, о количестве у них детей, о том, какие лишения они выносят. Рука об руку с обучением естествоведению должны были идти и рассказы из жизни народа; при этом находили необходимым обращать особенное внимание на бедность народа, на его тяжелый труд, вообще на мрачные стороны его существования, что нередко приносило гораздо более вреда, чем пользы. Вместо того чтобы веселыми играми, рассказами и песенками оживлять жизнь ребенка, поддерживать его жизнерадостное настроение, следовательно, укреплять его физически и морально, в нем возбуждали излишнюю чувствительность. Заставляя его задумываться над вопросами, несвойственными возрасту, расшатывали его нервы, делали не по годам мрачным и задумчивым, прививали болезненную восприимчивость.
Шестидесятые годы были временем отрицания поэзии и искусства, между тем при воспитании требовалось развивать и упражнять все органы чувств дитяти, все его способности физические и психические. Даже в бедных семьях на последние гроши (прежде родители не приносили таких жертв на воспитание и образование своих детей, как в то время) нанимали учителей рисования, лепки, пения, а нередко и музыки. Интеллигентные люди проникнуты были тогда мыслью, что в природе дитяти в зачаточном виде заложены самые разнообразные способности, что нравственная обязанность родителей делать всевозможные усилия, чтобы не зарыть в землю какого-нибудь его таланта. Другие утверждали (и их было немало среди тогдашней интеллигенции), что человек, не одаренный от природы тем или другим дарованием в области знания или искусства, может, если только пожелает, легко развить его путем Упражнения. И вот потому-то в детях так тщательно развивали способность к пению, рисованию, лепке и ко всевозможным отраслям естествознания. Однако казалось бы, что ввиду отрицания искусства не следовало бы развивать) в детях способностей к нему, а упражнять их лишь в столярном и токарном мастерствах, что тогда и было в большой моде в интеллигентных семьях. Но такое противоречие было скорее кажущееся, чем действительное, так как при обучении детей искусству старались, насколько возможно, заставить его служить современным утилитарным целям. Так, например, при обучении лепке и рисованию находили необходимым, чтобы дети воспроизводили орудия народного труда: молотильные цепы, лопаты, сохи, бороны, рисовали различные постройки и прежде всего избы, мельницы.
В общем, недостатки, иногда даже весьма крупные, в воспитании и образовании детей, знакомство с печальными сторонами жизни трудящегося люда, слишком большое переполнение детских голов естественнонаучными и другими сведениями, преждевременное умственное развитие и кое-какие другие погрешности постепенно сглаживались и исчезали. И не мудрено: эти недостатки так резко бросались в глаза своею несообразностью, что не могли удержаться долго, а между тем здоровое ядро, заложенное в основу воспитания детей в шестидесятые годы, а именно то, что умственное развитие необходимо строить преимущественно на естествоведении и изучать все окружающее как в природе, так и в жизни народа, установилось только с того времени и отразилось в общественном сознании.
Не менее важны были завоевания в нравственной области. Прежде всю заботу о воспитании возлагали на государство: ребенка отдавали в казенное заведение, где его воспитывали так, как это необходимо было для правительственных целей. Что же касается домашнего воспитания, то у людей со средствами дети дошкольного возраста оставались под надзором иностранных воспитателей, а в небогатых семьях им предоставлена была полная свобода делать что угодно, и они росли под влиянием крепостных, среди развращенной дворни. Только с шестидесятых годов в огромном кругу общества впервые было сознано, что о ребенке прежде всего должны заботиться его родители, что казенное воспитание убивает его индивидуальность, что его умственное развитие следует начинать гораздо раньше школы, что, наконец, воспитание посредством страха, наказаний, угроз, розог, этих способов педагогического воздействия, практиковавшихся в дореформенной России, создавало лишь рабов, убивало в ребенке его способности. Основная идея воспитания эпохи шестидесятых годов – раскрепощение детской личности, признание ее прав на известную самостоятельность, на необходимость свободно высказывать свои суждения, всестороннее умственное и нравственное развитие и требование от родителей гуманного, внимательного отношения к ребенку.
Возвращаюсь к своему рассказу. Когда сестры пришли с уроков и мы кончили обедать, обе они уселись за работу. Я удивлялась их энергии: проспав в предыдущую ночь три-четыре часа и работая до самого обеда, они и после него немедленно принялись за подготовку к урокам следующего дня.
Я осталась с Зиной, привлекавшей меня своим лепетом, грациею и неземною красотою своего личика; к тому же вся обстановка детской, занятия девочки и ее игрушки, отношение к ней старших, горячая забота о ней обеих ее «матерей», мысль каждой из них, как бы лучше объяснить ей то или другое, – все это было совершенно ново для меня и не имело ничего общего с тем, что я встречала дома в детстве у себя и в знакомых мне семействах. Большой шкаф в комнате Зины был набит предметами ее занятий. Она показала мне одну за другою несколько своих тетрадок; на страницах одной из них были прикреплены листья разнообразных деревьев и засушены цветы. Затем девочка поставила на стол несколько коробок, разделенных на отделения. В одной из них были собраны камешки и раковины, в другой – образчики ржи, овса, конопли, льняных семян; в особых свертках хранились образцы производства хлопчатой бумаги и льна. Все, что девочка показывала, она могла назвать и дать элементарное объяснение. Я просто пришла в восторг и от разнообразных сведений семилетней Зины, и от того, что она, городская девочка, жившая в деревне лишь два-три месяца в году, составила уже некоторое представление об окружающей природе, тогда как мы хотя и жили в деревне круглый год, но никто не научил нас пользоваться ее дарами, никто не обращал нашего внимания на явления природы, и мы умели только завидовать игрушкам наших сверстников в богатых семьях.
На мой вопрос, играет ли она в куклы, Зина, к моему крайнему удивлению, притащила что-то вроде обрубка палки, на одном конце которой было грубо размалевано лицо, а остальная часть была завернута в разноцветные тряпки. Несмотря на примитивность своей куклы, Зина с трогательною нежностью укачивала ее на руках, прижимая к груди, укладывала спать, напевая ей песенки. На мой вопрос, почему у ребенка нет настоящей куклы, Таня отвечала, что хотя она лично находит даже, что кукла дает упражнение лучшим свойствам женской души и материнства, заложенным природою, но она решила в этом отношении не противоречить сестре. Вера была убеждена, что кукла приучает к кокетству, развивает любовь к нарядам, доказывала, что женщины выходили пустыми отчасти потому, что их мысль наталкивали только на раздевание и переодевание своих кукол, на пустую болтовню из домашней обыденщины. Она была глубоко убеждена в том, что в современном воспитании необходимо все это уничтожить и изменить, причем прежде всего следует выбросить из детской весь этот кукольный хлам и романтизм. Она считала компромиссом даже деревянный обрубок, который она, вместо куклы, допустила в детскую Зины, но рассчитывает, что он все-таки не может уже так развратить девочку, как настоящая кукла.
Первым средством для самообразования, для подготовки себя ко всякого рода деятельности и к настоящей полезной общественной жизни считалось тогда изучение естественных наук, на которые смотрели, как на необходимый фундамент всех знаний без исключения. Как в Западной Европе, так отчасти и у нас люди образованные уже давным-давно придавали им большое значение, что наглядно подтверждали великие открытия, но в шестидесятых годах благоговение к естествознанию распространилось в огромном кругу русского общества и носило особый характер. Ждали необыкновенно полезных результатов не только от научных исследований специалистов, но от каждой популярной книги, к какой бы отрасли естествознания она ни относилась, находили, что образованный человек обязан черпать свои знания прежде всего из этого источника. Тогда были твердо убеждены в том, что изучение естественных наук поможет устранить суеверия и предрассудки народа, уничтожит множество его бедствий. Такие взгляды вызвали появление в свет множества популярных книг по естествоведению, и публика раскупала их нарасхват. Теперь даже трудно себе представить, с каким всеобщим восторгом было встречено издание перевода книги Брема «Жизнь животных». Не читать этой книги значило подвергать себя укорам и насмешкам. Но занимались не одною зоологиею, а и другими областями естествоведения: минералогиею, ботаникою, физиологиею, химиею, отчасти даже анатомиею. Так как специально изучать все эти предметы для громадного большинства было немыслимо, отчасти вследствие недостаточной подготовки к ним, отчасти по недостатку времени, то каждый старался получить о них хотя элементарные сведения. Не говоря уже о том, что лекции по названным предметам читались в публичных залах профессорами и специалистами, их устраивали и в частных домах, в которые тоже иногда удавалось заполучить профессора, но в большинстве случаев тут читали студенты-естественники и под их руководством шли занятия.
Кстати надо заметить, что в то время студенты вообще, особенно естественного факультета, имели много частных уроков: сразу явилось немало лиц как из высших, так и из средних классов общества, желавших заниматься естественными науками. Каждое семейство, у которого в доме была свободная комната, охотно уступало ее вечером для подобных занятий: тут демонстрировали бычачье сердце, резали лягушек и зайцев, изучали и сравнивали устройство зубов различных животных, строение тела птиц и рыб, рассматривали под микроскопом растения, насекомых, кусочки сыра, капли воды. Все эти чтения и занятия, где бы их ни устраивали, притягивали массу народа. Но многие сознавались, что, отчасти вследствие неподготовки к слушанию подобных лекций, отчасти оттого, что большинство подобных сведений приобреталось урывками, они стояли в мозгу отрывочными фактами, не объединенными между собой одним общим знанием. Но зато явилось немало и таких, которые с страстным увлечением погрузились в изучение естественных наук и кончили тем, что написали специальные сочинения по этим наукам, а еще чаще полезные популярные книги. Однако было немало и таких, которые, начав занятия по естествоведению, очень скоро почувствовали отсутствие не только каких бы то ни было способностей к ним, но и простого влечения. Но бросить занятия этими предметами было весьма трудно, по крайней мере для тех, кто не имел достаточно силы воли, чтобы противостоять влиянию своего кружка.
Русские люди, кроме немногих исключений, начали жить общественною жизнью лишь после падения крепостного права, в то время, когда еще в каждом из нас было много крепостнической закваски; вот потому-то некоторые фанатики идей шестидесятых годов предъявляли свои требования к остальным членам общества как-то особенно тиранически и нелепо. Никто не обращал ни малейшего внимания на то, имеет ли человек склонность к тому или иному предмету. Каждый правоверный шестидесятник должен был все свои способности отдавать естествознанию. Эта мода подчинила тогда такое множество интеллигентных людей, что нередко талантливые музыканты, художники, певцы и артисты забрасывали искусство ради изучения естественных наук и вместе с другими бегали на ботанические, зоологические, минералогические и другие экскурсии, работали с микроскопом, определяли тщательно собираемые камешки, – все были загипнотизированы великим значением естествоведения.
В то время я часто встречала в кружках высокую, красивую блондинку Эн.; она не бывала у «сестер», и я не могла назвать ее своею знакомою, тем не менее мне приходилось иногда разговаривать с нею. Специально изучая химию, она однажды печально заговорила со мною о том, что ей вообще не даются естественные науки, вероятно, вследствие ее жалкого образования, но что, несмотря на это, она будет продолжать свои занятия во что бы то ни стало, так как теперь ни один образованный человек не может существовать без знания химии. Через несколько месяцев после этой встречи разнеслось известие о том, что Эн. покончила самоубийством. При этом ее приятельницы утверждали, что это несчастие произошло только из-за того, что ей совсем не давалась химия. Но такова ли была действительная причина самоубийства молодой девушки, или к этому прибавилось и что-нибудь другое, я не могу сказать, так как была мало знакома с нею.
Вечером мы отправились с Верою Корецкою к медицинскому студенту старшего курса Прохорову слушать его чтение о кровообращении. Он занимал отдельную квартиру и жил со своими родственниками, которым неожиданно пришлось уехать из Петербурга по своим деревенским делам, и они все помещение предоставили в его распоряжение. Чуть ли не в каждой комнате его квартиры шли по вечерам разнообразные занятия. Прослушав лекцию, желающий мог войти в следующую комнату: посреди нее стоял человеческий скелет, а на столиках лежали кости и череп, – тут при помощи студента-специалиста можно было получить наглядное знакомство с строением человеческого тела. В одной из комнат этой квартиры шли опыты по химии.
Хотя занятия по естествоведению, на которых мне приходилось присутствовать, в большинстве случаев излагались довольно удобопонятно, но я с каждым разом чувствовала все меньшее к ним влечение. Я постеснялась откровенно поговорить об этом с Верой: она была слишком строгою последовательницею всех предписаний шестидесятников и, как мне казалось, могла только осудить меня, а потому я и обратилась к ее сестре Тане. Та со страхом выслушала мою исповедь.
– Да уж тебе-то совершенно не приходится так скептически относиться к этим занятиям, – ведь ты только начинаешь работать! – говорила она. – Я – другое дело: вот уже несколько месяцев я бьюсь над этими предметами, а у меня в голове все какие-то обрывки… При этом еще как-то мучительно досаждают звуки, звуки без конца…
Я изумилась и не поняла, при чем тут звуки. Таня махнула рукой и, удостоверившись, что в соседней комнате не было ее сестры, присела ко мне на диван и начала говорить, приходя все в большее отчаяние:
– Счастливая! Ты не знаешь, что такое звуки! А мне они просто мешают заниматься!.. Рассматриваю под микроскопом крылышки насекомого, уже начинаю подмечать кое-какие детали, вдруг в ушах раздается вальс Шопена или соната Бетховена… Я все забываю и, когда прихожу в сознание, ловлю себя на том, что ногами такт отбиваю, головою покачиваю и голосом подпеваю… Каково? А то в уши лезут разные стихи… Ах, прах бы побрал этого Пушкина! Он меня просто отравил! Нужно мне было еще учиться декламации! Ведь для этого мне пришлось выучить наизусть множество его стихотворений, – вот они и лезут теперь в голову!..
– А ведь ты чудесно умеешь декламировать, – говорила я ей, – я на твоем месте поступила бы на сцену.
– Опомнись, что ты говоришь! Ты все как-то не можешь усвоить современных требований! Прошло времечко, милая моя, когда мы потешали сытых людей! А что было бы с Верусей, если бы я поступила на сцену? И как всем нашим я стала бы в глаза смотреть? Наконец, если все, решительно все умные и образованные люди находят, что естественные науки необходимы, и мы с тобой должны покончить со всеми своими благоглупостями!.. Мне куда тяжелее тебя достаются эти занятия! Я до сих пор содрогаюсь от ужаса, до сих пор не могу приучить себя смотреть, как режут лягушек, не могу без омерзения дотронуться до человеческих костей!.. Всеми силами стараюсь вытравить из себя эту пошлость – и не могу…
Такого разговора было для меня достаточно, чтобы больше уже ни к кому не обращаться со своими сомнениями. Я не только продолжала бегать на всевозможные занятия по естествоведению, но и добывала книги, чтобы прочитывать то, что только что было изложено устно. Несмотря на это, я все более сознавала, что у меня ничего не выйдет из приобретаемых сведений, но мысль, что, бросив эти занятия, я не только не удовлетворю главным требованиям людей, меня окружающих, но даже сама себя буду считать пропащим человеком, заставляла меня еще с большим рвением заниматься тем, чем и все остальные.
Одною из главных своих обязанностей молодежь считала занятия в воскресных школах. И я с Верою Корецкою в первое же воскресенье отправилась в воскресную школу. Это было в марте 1862 года, незадолго до пожаров в Петербурге, – следовательно, еще до начала особенно усиленного гонения, воздвигнутого на воскресные и бесплатные школы. В школу, которую я посещала, приходило иногда двадцать, а то и более учителей и учительниц, и каждый из них брал двух, а то и одного ученика, и они вместе садились на скамейку. Подготовка учащихся была крайне разнообразна: приходили и безграмотные, и полуграмотные, притом желающих учить являлось иногда лишь немногим меньше, чем учеников.
Как только мы вошли в школу, мимо нас прошел молодой человек лет двадцати семи – двадцати восьми. Вера шепнула мне, что это Помяловский, писатель, уже пользовавшийся тогда большою известностью. Его густые, вьющиеся, волнистые темно-русые волосы были закинуты назад; красивые голубые глаза, благородный открытый лоб, подвижные черты лица и удивительно приветливая улыбка на губах – все делало его чрезвычайно симпатичным.
На этот раз я не взяла ученика, села на скамейку сзади Помяловского и начала прислушиваться к его преподаванию. Он с такой доброй улыбкой провел рукой по волосам белобрысого мальчонка, что, видимо, сейчас же расположил того в свою пользу. В то время как Помяловский перелистывал книгу, чтобы выбрать что-нибудь для чтения своего ученика, тот спросил его:
– Скажите, дяденька, как это пророк Илья так гулко громыхает по небу? Ведь на нем нет ни каменной мостовой, ни мостов…
Помяловский громко расхохотался, ему вторил и его ученик; затем он так просто начал рассказывать о небе и тучах, о громе и молнии, что под конец мальчик воскликнул:
– Значит, про пророка Илью только сказки сказывают?
Во время этого объяснения к Помяловскому подходили и другие ученики, без церемонии оставляя своих учителей, и наконец около него образовалась целая группа, из которой то один, то другой спрашивал его что-нибудь. Помяловский встал с своего места и с неподражаемою простотою, то добродушно посмеиваясь, то сопровождая свои объяснения русскими поговорками и пословицами, разъяснял недоумения детей. Скоро все присутствующие в школе – ученики и учителя обратились в одну аудиторию и внимательно слушали в высшей степени занимательные объяснения Помяловского.
Когда мы уходили из воскресной школы, Вера подошла к Помяловскому и пригласила его на свои вечеринки, несмотря на то что они друг с другом совсем не были знакомы. Но тогда этим не стеснялись, если только встреченный человек казался симпатичным. Так на это, видимо, посмотрел и Помяловский: он сердечно поблагодарил Веру за приглашение, записал ее адрес и дни приема и обещал бывать у них, что и выполнил, но меня уже тогда не было в Петербурге.
Объединение людей шестидесятых годов в кружки было в ту пору в большом ходу и представляло своего рода новинку. Общественное движение, охватившее русское общество, выдвинуло множество вопросов, о которых необходимо было побеседовать сообща; этому объединению сильно содействовали демократические идеи и пошатнувшиеся сословные перегородки. Во многих кружках, особенно в тех из них, которые были устроены с просветительными целями, можно было встретить чрезвычайно смешанное общество: и дам высшего света, и студентов, и сыновей купцов, и чиновников, но, конечно, чаще всего интеллигентную молодежь обоего пола, среди которой было теперь так много бывших семинаристов и детей разночинцев.
Как устроился частный маленький учительский кружок (его называли также кружком педагогов юного поколения), который я посещала, – я не расспрашивала; знаю только, что никакого членского взноса в нем не существовало, и посетители собирались то в одной, то в другой квартире кого-нибудь из своих знакомых. На заседания кружка приходил каждый желающий, если у него был в нем хотя один знакомый. При входе с каждого взимали по 15–20 копеек на чай и булки, что и передавали кухарке. Чаще всего и таких сборов не делали, так как хозяйка квартиры все расходы принимала на себя. Когда собравшиеся усаживались к столу, один из них спрашивал: «Кто желает сегодня рассказать о том, как он ведет свои занятия в воскресной или какой другой школе, какие рассказы и чтения предлагает своим ученикам и как они реагируют на это?» И молодые люди обоего пола излагали, как они занимаются с своими учениками, какие вопросы те задают им, каковы результаты их преподавания. Обучением в воскресных школах тогда живо интересовалось все интеллигентное общество. Вера Корецкая подробно рассказала о беседах Помяловского с учениками. Многие тут же решили посещать ту воскресную школу, где преподает этот писатель, чтобы поучиться у него преподаванию.
Однажды кто-то заявил на собрании нашего учительского кружка, что он только что слышал, что при обучении первоначальной грамоте скоро будет введен такой метод который во много раз ускорит ее усвоение. Ввиду того что никто из присутствующих ничего не знал об этом, я, несмотря на свою застенчивость, изложила все, что я слышала о звуковом методе от К. Д. Ушинского в бытность его инспектором Смольного монастыря: он уже тогда занимался этим вопросом и решил в близком будущем написать азбуку (впоследствии приобревшую замечательно громкую известность) и изложить еще новую тогда теорию начального обучения грамоте. Когда я сделала свое сообщение, на меня резко напал «Экзаменатор», который усердно работал в одной из воскресных школ. Он выступил с серьезным обличением меня за то, что в моем присутствии состоялось уже несколько заседаний этого кружка, а между тем я умалчивала о вещах, которые могли быть полезны для всех, кто занимается преподаванием. При этом он закончил свое обличение словами:
– Вы сами видите теперь, какое гнусное воспитание вы получили в вашем великосветском пансионе или институте. Вместо того чтобы научить вас разумному отношению к делу, оно приучило вас к рабскому молчанию или к пошлой конфузливости… Так говорите же, может быть, вы еще знаете что-нибудь путное?
До невероятности обозленная таким бесцеремонным отношением «мальчишки», я молчала, не умея дать ему надлежащий отпор. Но когда другие обратились ко мне с тою же просьбою, но в более деликатной форме, я начала говорить о том, что присутствующие, насколько я могла понять, совершенно отрицают классную дисциплину, находят, что учащиеся должны пользоваться полною свободою: захотят во время урока поболтать с соседом, побегать в коридоре, могут поступать как вздумается. Ушинский же стоит за строгую классную дисциплину, которая, однако, дает полную свободу ученикам высказывать учителю все, что им приходит в голову, но в то же время обязывает их соблюдать тишину и порядок в классе, иначе, по его мнению, ученики мешают своим соседям слушать, а учителю – объяснять преподаваемое.
На Ушинского посыпались обвинения в ветхозаветных взглядах:
– Мы, молодое поколение, – заявлял то один, то другой, – должны порвать связь с тем жестоким временем, когда к учащимся относились не как к разумным существам, а как к солдатам, которые по заведенному порядку, по команде должны были думать, соображать, отвечать, уходить, приходить…
Такие выражения относительно Ушинского мне казались святотатством: меня это крайне разобидело за него, и я хотела крикнуть им, что, требуя тишины в классе, он показывает только, что не желает смешивать свободу с распущенностью. Я считала своею нравственною обязанностью бросить это в глаза им, осмелившимся осуждать такого великого педагога, а между тем постыдно промолчала.
– Скажите-ка лучше, сколько ему лет? – спрашивали меня.
– Это никакого отношения не имеет к его взглядам! – возражала я.
– Напротив: почтенные годы даже умных людей обыкновенно заставляют держаться совсем непочтенных взглядов! Иные старички придерживаются заскорузлого образа мыслей даже не из подлости, а просто потому, что они одряхлели…
– Если вы находите нужным делать тайну из его годов, – перебил его другой, видя, что я молчу, – может быть, вы заблагорассудите открыть нам, как он относится к поэзии и искусству?
Я отвечала, что ни из чего не делаю тайны, что Ушинскому, кажется, нет и сорока лет, что в педагогике он реалист в лучшем смысле слова, что в качестве инспектора института он явился настоящим реформатором, ломал все старое, что он первый ввел в преподавание естественные науки, что он в своей хрестоматии отводит этим предметам много места, что на художественные произведения у него, сколько могу судить, такие же взгляды, как и у Николая Петровича Ваховского.
Присутствующие причислили его к разряду «честных педагогов», которые хотя и могли бы стоять в рядах современных людей, но годы и эстетические воззрения этому мешают.
Нередко собрания учительского кружка были посвящены воспоминаниям. В таких случаях кто-нибудь из присутствующих заявлял: «Я расскажу о своем детстве, то есть о том, как не надо воспитывать». У некоторых рассказчиков, иногда в художественных образах, вырисовывалась картина разврата помещичьей среды, ссоры, дрязги и интриги между родителями. Даже в тех семьях, где детей горячо любили, мало интересовались характером детской души, притупляли их любознательность, не давали им ни духовной пищи, ни простора для их умственной самодеятельности. И рассказчик или рассказчица обыкновенно так заканчивали свое повествование: «Вот потому-то мы и должны вести настоящую агитацию против тирании семьи, вот потому-то у нас явилось отрицание авторитетов наших отцов или же в лучшем случае полнейший индифферентизм к ним». И во всех подобных речах красною нитью проходила мысль, что прежде всего необходимо разорвать семейные цепи и реформировать законы, основанные на старых традициях и рабских устоях.







