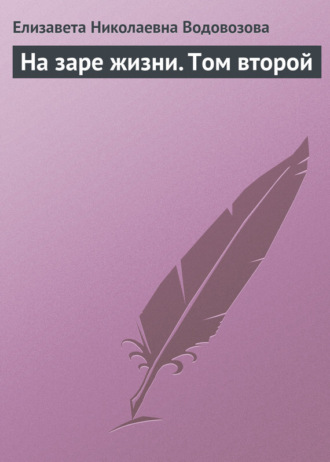
Елизавета Водовозова
На заре жизни. Том второй
Ее экспансивность, правдивость, искренность и прямота доходили у нее до прямолинейности и нередко ставили многих в неловкое положение. Но самою выдающеюся чертою ее характера была безумная, страстная любовь, доходящая до пламенного обожания, к своему мужу. Это она доказала всею своею жизнью до последнего вздоха, своими заботами о нем, всеми своими поступками и отношением к нему. Его интересы, желания, вкусы она всегда ставила выше своих. Безумная любовь к нему была и причиною ее смерти. Она не только безотлучно находилась при нем во время его смертельной болезни, но когда он скончался, то после каждой панихиды, отслуженной у его смертного одра, когда все расходились, она садилась у его изголовья, покрывала его лицо поцелуями, вытирала своим носовым платком его лицо, а затем свое собственное. Я сама застала ее в одну из таких минут. Делала ли она это сознательно, чтобы заразиться трупным ядом, или потому, что покойник возбуждал в ней такую же страстную любовь, как и при жизни, и она, глядя на него в последние минуты перед вечной разлукой, думала только о том, что ее жизнь без боготворимого ею человека теряет для нее всякий смысл… Кто знает! Но она пережила его лишь на несколько дней: смертельно заболела, слегла в день его похорон и не могла на них присутствовать, – она умерла от крупозного воспаления легких.
Скоро после первого знакомства с Екатериной Павловной меня крайне удивило, что она называет своего мужа «мамкою». Я просила ее объяснить мне причину этого странного эпитета, который она давала человеку, ничуть не напоминавшему женщину.
– Григорий Захарович, – говорила я, – напротив, представляет характерный тип мужчины во всем блеске своей физической силы, ума и красоты.
Екатерина Павловна бросилась меня обнимать.
– Ты хорошо это сказала… Очень хорошо!
Меня страшно ошеломило ее фамильярное обращение ко мне на «ты», что я услышала от нее в первый раз. Заметив мое смущение, одна из ее любимиц, сидевшая тут же, объяснила мне, что на «ты» Екатерина Павловна обращается ко всем симпатичным для нее молодым девушкам и дамам.
– Понятно. Иначе значило бы оскорбить. А за что? Я не сумасшедшая!
Выражение «я не сумасшедшая» зачастую срывалось с ее уст. Когда Григорий Захарович слышал это, он обыкновенно говорил что-нибудь в таком роде: «Ну, это еще нужно доказать!»
Екатерина Павловна объяснила мне, что называет мужа «мамкою», «мамулечкою» потому, что каждому мать дороже всего на свете.
Не раз приходилось мне обедать у Екатерины Павловны вместе с ее знакомыми. Когда перед нею ставили блюдо с кушаньем, она тщательно его осматривала, выбирала лучший кусок, клала его на тарелку, бежала с нею к мужу, пододвигала ему нож и вилку, и быстро возвращалась на место. Однажды я шутя заметила ей, что она должна предпочтение отдавать нам, гостям, а особенно дамам, а не своим домашним. Она же, покачивая головой, как-то задумчиво произнесла:
– Да что мне за дело до вас всех, и мужчин, и дам!
Раздался общий хохот сидевших за столом. А она, не стесняясь, продолжала по-прежнему:
– И чего мне фальшивить? Всегда и всюду у меня только одна забота, одна думка в голове – он, мой голубчик!
Действительно, все остальное в мире отодвигала она на большую дистанцию от предмета своей страсти, тем не менее все достойное сочувствия вызывало у нее горячий отклик. Стоило ей, бывало, услышать от кого-нибудь о несчастной девушке, приехавшей из провинции учиться и захворавшей или очутившейся в безвыходном положении без денег и теплой одежды, Екатерина Павловна тотчас же просила передать ей то и другое. И это было даже тогда, когда средства Елисеевых были весьма ограниченны. Когда она не могла помочь ни деньгами, ни одеждой, она брала адрес несчастной девушки, чтобы в судках посылать ей часть своего обеда. Мне не раз приходилось прибегать к помощи Екатерины Павловны, чтобы добыть какие-нибудь занятия для нуждающихся. Екатерина Павловна не забывала о просьбе, объезжала своих знакомых, но когда она приезжала ко мне, чтобы сообщить о результатах своих хлопот, она то и дело что-нибудь перепутывала: вместо того чтобы искать занятий музыкой и французским языком, она находила занятия французским и немецким языками. При этом она же обрушивалась на меня с негодованием:
– Ты должна была бы от времени до времени напоминать мне, что тебе от меня надо. А лучше всего написала бы два слова: «музыка, французский», вот и вся недолга.
– Конечно, вы больше виноваты, чем она, – с своей неизменно саркастической улыбкой замечал Григорий Захарович. – Понять Екатерину Павловну дело несложное, а вы давно с ней знакомы и все не можете приноровиться к ней.
– Ты один только, мамулечка, сокровище мое, знаешь все, что следует… Пошлет меня за книгой или за чем-нибудь другим и все запишет. Вот я у него никогда ничего не перепутываю… – И она бросается его обнимать.
Он освобождал свою шею от ее объятий, но никогда не делал этого резко или грубо, а чаще всего совсем не отстранялся от ее ласк даже в присутствии посторонних. Если бы они стесняли или шокировали его, ему бы, конечно, стоило сказать ей только одно слово и это уже никогда бы не повторялось.
– Вы, вероятно, хорошо знакомы с французскою пасторалью, – говорил Григорий Захарович, обращаясь ко мне в одну из минут, когда она душила его в своих объятиях. – А теперь полюбуйтесь на идиллию из русской семейной жизни.
Хотя Екатерина Павловна совсем бесцеремонно обращалась с молодыми девушками, но была горячо любима ими. Однажды я пришла на ее четверговый журфикс довольно рано, а несколько молоденьких девушек уже увивались около нее и без умолку болтали, перебивая друг друга.
– Ну, довольно стрекотать! Брысь по местам! Когда кто приходит позначительнее вас, вы без напоминания должны освобождать место… – говорила она им не то шутливо, не то сердито.
Барышни с хохотом бросились к стульям подальше от стола.
– Ну, моя значительность довольно сомнительного характера… – заметила я.
– Зачем так говорить?.. Как же тебя приравнивать к этим птицам небесным? Ты и постарше их, и порассудительнее, и уже давно работаешь. А они что? Стрекозы, сороки. Может, стрекотанием-то у них все и ограничится.
Особенно усердно защищала Екатерина Павловна всех, кого она любила, от нападок, сплетен и злословия. В таких случаях она проявляла необыкновенную стойкость, мужество, даже выдержку, что, казалось, совсем было несвойственно ее натуре. По этому поводу произошел однажды даже превеликий скандал. У Гайдебурова в доме было многочисленное собрание знакомых. Присутствовали на нем и Елисеевы. Это было в ту пору, когда оба супруга особенно дружили с Мариею Александровною Маркович (Марко Вовчок). В одной группе заговорили о том, что она, получая переводы от Звонарева с платою по 15 рублей за лист, передает их другим, уплачивая за него по 6–7 рублей, а остальное кладет в свой карман.
– Может быть, на ее обязанности лежит редактирование переводов и ей приходится много возиться с выправкою их, – заметила Екатерина Павловна.
Но тут со всех сторон градом посыпались обвинения на Маркович. Самыми горячими обвинительницами явились Е. И. Конради и Л. П. Шелгунова, обе писательницы-переводчицы. Они смело называли фамилии своих знакомых, подвергшихся разнообразной эксплуатации со стороны Маркович. В пылу этих обличений никто не замечал или не придал никакого значения тому, что Екатерина Павловна то и дело переспрашивала фамилии лиц, пострадавших от Марко Вовчок, и, наклоняясь над столиком в углу, что-то записывала. Когда хозяева пригласили к закуске своих гостей, Екатерина Павловна, садясь за стол, заявила громогласно, что если бы все то, что было здесь сказано о Маркович, подтвердилось, то ни она, ни «мамка» не считали бы возможным подавать ей руку. Судя по оживленной улыбке Григория Захаровича, можно было думать, что он вполне одобряет выходку своей жены.
Прошло несколько недель, и я уже забыла об этом инциденте, как вдруг ко мне приехала Екатерина Павловна и Марко Вовчок, которую я несколько раз встречала у Елисеевых, но до тех пор мы не бывали друг у друга. Романами И рассказами преимущественно из быта малорусских крестьян Марко Вовчок приобрела огромную популярность в обществе, особенно среди молодежи того времени. Это была женщина выше среднего роста, полная, не особенно красивая, но, как про нее говорили, лучше всякой красавицы. Когда она была уже не первой молодости, с чрезвычайно густыми, широкими черными бровями, с несколько расплывшимися, но весьма подвижными чертами лица, с умными темно-синими проницательными глазами. Одета она была всегда необыкновенно изящно, по моде, но небрежно, Екатерина Павловна заявила, что она завезла Марко Вовчок, а сама посидит у меня недолго: ей необходимо посетить кое-кого все по тому же «грязному делу». На мой вопрос, о каком деле она говорит, она тотчас же напала на меня за то, что я так легко забыла о помоях, которыми обливали Марию Александровну, «нашу честную, всеми уважаемую писательницу», с энтузиазмом говорила она, добавив к этому, «что если все так легко забывать и прощать клеветницам, то они всегда останутся такими же низкопробными существами. В таком случае мужчины будут вправе считать себя выше нас, женщин, даже в нравственном отношении… На это не должна равнодушно смотреть ни одна порядочная женщина». Затем Екатерина Павловна сообщила, что собрала сведения относительно большинства тех, с кем Мария Александровна, по словам сплетниц, поступила будто бы подло, а между тем оказывается уже в данную минуту, что ничего подобного не было. Впрочем, от некоторых еще не получены письма, с другими ей необходимо повидаться.
– Екатерина Павловна оказывается особой с рыцарской душой, – заговорила М. А. Маркович. – Скажите, пожалуйста, кто это нынче с таким самоотвержением защищает своих близких? Ведь она устроила настоящую анкету по моему делу, рассылает своих юных приятельниц, чтобы узнать только о том, когда та или другая дама может ее принять… Можете себе представить, до чего недобросовестными оказались госпожи Конради и Шелгунова: они ссылались даже на лиц, будто бы мною эксплуатируемых, но которых я никогда и в глаза не видала! Представьте же себе, сколько клевет прилипает к именам тех, у которых нет таких защитников, таких ангелов-хранителей, таких рыцарски честных людей, как Екатерина Павловна.
– При чем тут рыцарство? Обязанность каждого порядочного человека преследовать сплетниц… «Мамка» говорит, что это необходимо особенно для нас, женщин, чтобы оздоровить среду, в которой мы вращаемся, чтобы не краснеть за тех, с кем мы поддерживаем знакомство.
Вероятно, об усердном расследовании вышеизложенного дела не доходило никаких сведений ни до Конради, ни до Шелгуновой, так как обе они опять явились к Гайдебуровым на одно из последующих собраний. Вот тут-то Екатерина Павловна и начала их безжалостно разоблачать, прочитав одно за другим несколько писем от лиц, на которых указано было, как на жертв, подвергшихся эксплуатации со стороны Марко Вовчка. В одном из них отрицалось какое бы то ни было знакомство с нею, а потому-де писавшая и не могла говорить Шелгуновой что бы то ни было о ней, а тем более указывать на ее некорректные поступки; в другом указывалось, что однажды писавшая расспрашивала Конради о Марко Вовчке потому, что интересовалась ею как женщиною-писательницею; переводов же от нее она никаких не имела. В третьем письме писавшая объясняла, что она рассказывала лишь о том, как однажды носила Марко Вовчку на прочтение свой роман, которого та не одобрила, и добавила, что ею, вероятно, руководило jalousie de métier;[16] других же отношений она с этой писательницею никаких не имела. Вообще, слухи о Маркович как об эксплуататорше, как убедительно доказывала Екатерина Павловна, не подтвердились. Хотя Конради и Шелгунова продолжали настаивать на своем, утверждая, что все эти «дамы» испугались попасть в «историю», а потому и показывают теперь не то, что они раньше говорили, но Екатерина Павловна без стеснения назвала их особами, легкомысленно и преступно опорочившими честное имя известной писательницы.
Однако дружба между Елисеевыми и Маркович длилась недолго. Когда вышел ее перевод сказок Андерсена, то в одной из газет было указано, что многие места в них были слово в слово списаны из ранее напечатанного издания переводов тех же сказок, выпущенного в свет другими лицами, кажется, Трубниковой и Стасовой. Чтобы более наглядно доказать это, соответственные места того и другого перевода были напечатаны en regard[17].
Еще до появления этой обличительной статьи Елисеева не раз говорила мне о том, что я некорректно отношусь к Маркович: она-де известная писательница, особа постарше меня годами, а уже несколько раз посещала меня, а я только однажды ответила на ее первый визит. Я наконец собралась к ней, но это как раз пришлось через недели две после появления в свет злосчастной для нее статьи. Чтобы отправиться к Маркович вместе с Екатериной Павловной, я зашла к последней, но та наотрез отказалась сопровождать меня. Екатерина Павловна заявила, что хотя и поддерживает знакомство с нею, но между ними произошло охлаждение.
– Ведь «мамку» не подкупишь ни золотом всего мира, ни дружбой. Когда появилось указание, что Марко Вовчок ограбила чужой перевод, она оправдывалась перед нами тем, что особа, которой она поручила его, подвела ее. Не «мамка» прекратил эти разглагольствования, прямо заявив ей, что с ее стороны это было, во всяком случае, весьма легкомысленно.
Когда я вошла к Маркович, она на этот раз совсем не имела вида светской сдержанной особы. С места в карьер она стала упрекать меня за то, что я под влиянием распространенной о ней гнусной клеветы порвала с нею знакомство, даже в такую, как эта, тяжелую минуту ее жизни. Когда я напомнила ей, что мое посещение опровергает взводимое на меня обвинение, она, крепко пожимая мне руки, со слезами, катившимися по ее щекам, нервно заговорила о том, что раскроет на третейском суде весь злонамеренный заговор, составленный против нее одним дамским кружком, члены которого из зависти к ее популярности решили ее погубить и облить грязью. Вообще она говорила на этот раз чрезвычайно много, и едва ли сознавая то, что так безудержно срывалось с ее уст. Но для меня было ясно одно, что она находилась до невменяемости в крайне возбужденном состоянии.
Теперь я возвращусь к прерванному рассказу, к последним числам декабря 1867 года, когда от Краевского я отправилась к Елисееву. Как только передо мной была открыта дверь его квартиры, я услышала мужские голоса, доносившиеся из кабинета в переднюю. В столовой я застала Екатерину Павловну, суетившуюся над приготовлением закуски. Она сказала мне, что Некрасов, Салтыков и Григорий Захарович обсуждали вопрос о выходе в свет первого номера «Отечественных записок», что их совещание скоро окончится, что она и меня приглашает принять участие в закуске. Но я просила ее лишь на несколько минут вызвать ко мне Григория Захаровича, так как я должна торопиться домой.
– Как, ты отказываешься познакомиться с такими знаменитостями, как Некрасов и Салтыков? Каждый на твоем месте отдал бы все на свете, чтобы хоть одним глазком взглянуть на них, послушать их разговоры, даже посмотреть на них, когда они едят.
– Вероятно, они делают это, как все смертные. Я чрезвычайно люблю читать произведения этих знаменитостей, а глазеть на них или навязывать им свою особу вовсе не стремлюсь.
– Зачем глазеть, ты разговаривай. Ведь ты у нас смелая! По правде сказать, я на днях даже подивилась твоей излишней самонадеянности: «мамка» говорил мне, что ты статью написала для нового журнала. Да понимаешь ли ты, какой это будет журнал? Это будет самый первый, самый лучший журнал в России! А тебя и это нисколько не смутило…
– Вы опять напутали, Екатерина Павловна!
Я объяснила ей, в чем дело, и просила вызвать Григория Захаровича. Он подтвердил все сказанное Краевским и прибавил, что для первых книжек «Отечественных записок» у них имеется уже громадный материал, чтобы я принесла ему мою статью через три-четыре месяца, так как раньше у него не будет времени ее прочитать. Я отвечала, что еще не кончила эту работу, но к назначенному сроку она будет готова.
На возвратном пути домой я почувствовала себя крайне плохо. Как только я легла в постель, меня стала душить смертельная боль в горле. Я с ужасом думала о том, что придется позвать врача, а платить нечем. Тогда мне пришла в голову мысль написать моей близкой знакомой, жившей около нас, которая была замужем за известным в то время доктором Тихомировым, чтобы она попросила своего мужа посетить меня.
Тихомиров скоро явился и заявил, что у меня дифтерит.
Тогда еще не была изобретена спасительная антидифтеритная сыворотка для подкожного впрыскивания, и меня лечили полосканиями и прижиганиями горла. Доктор приходил не только по нескольку раз в день, но и ночью сидел подолгу у моей постели, наблюдая за ходом болезни. Только невыносимая тяжелая болезнь не давала мне страдать еще и нравственно из-за того, что этот великодушнейший человек теряет столько времени для меня, а я не имею возможности хотя сколько-нибудь вознаградить его за труды. Дня четыре я задыхалась по многу раз в сутки, а когда в первый раз после этого заснула покойно, спазмы в горле прошли и меня не душило более, доктор объявил, что я нахожусь вне опасности, но тогда наступил второй период болезни – страшная слабость. Тихомиров долго еще продолжал посещать меня почти ежедневно. Этот до невероятности ужасающий упадок сил, не дозволяющий мне ни поднять головы, ни пошевелить рукою, вероятно, усиливался от все более возраставшей тревоги, что я не могу работать, что я пропущу срок представления статьи. Однако временами я чувствовала немного более сил, и тогда мне казалось, что я слишком поддаюсь болезненному настроению: я просила няню принести мои тетради и усадить меня, обложив подушками. Но голова кружилась так, что я не могла ни соображать, ни сидеть более нескольких минут. Доктору донесли о моем поведении, и он начал убеждать меня, что я могу сильно повредить себе преждевременною попыткою работать. Я вдруг разволновалась: мое сердце преисполнилось величайшею благодарностью к этому самоотверженному человеку; неожиданно для меня самой у меня ручьями потекли слезы, я схватила его руку, поцеловала, не будучи в состоянии произнести ни звука.
Как только я встала с постели, я начала работать и с каждым днем чувствовала, что работа – моя спасительница и утешительница во всех несчастиях, моя отрада, счастье и наслаждение всей моей жизни, что она успокаивает нервы лучше всяких лекарств и дает с каждым днем все более силы забывать житейские невзгоды, напряженнее углубляться в труд, окрыляет надеждою расплатиться наконец со всеми долгами, которых накопилось особенно много вследствие экстренных расходов за время болезни.
В конце марта работа была совершенно окончена, но стояла такая суровая погода, что я решила прежде, чем выйти на воздух в первый раз после тяжелой болезни, несколько повременить. Вдруг вышел апрельский номер «Вестника Европы» со статьей «Позднейшие волнения в Оренбургском крае в 1843 г.». Я бросилась читать ее и к ужасу своему пришла к заключению, что она составлена по тем же материалам, которые имелись и в моем распоряжении. Я не могла понять, как это могло случиться, и отправилась к Елисееву. Он также подивился этому и посоветовал для выяснения дела съездить в редакцию «Вестника Европы». Мое заявление заинтересовало сотрудников, находившихся в это время в редакции. Оказалось, что автор означенной статьи, г. Середа, только что возвратил материал, порученный ему. Мне дозволили взять столько рукописей, сколько я пожелаю, с условием возвратить их после проверки. Когда я сличила их с рукописями, бывшими у меня, то оказалось, что они представляют точную копию с материалов, полученных мною от Краевского. Каждое волнение в той или другой местности Оренбургского края было описано в двух совершенно тождественных рукописях, написанных даже одним и тем же почерком. Ясно было, что какой-то человек, оставшийся неизвестным, продал по одному экземпляру описаний этих волнений и в «Вестник Европы» и в «Отечественные записки».
Долго после этого удара я чувствовала себя какой-то пришибленной, индифферентной ко всему, меня окружавшему, бессильной начать новый труд.







