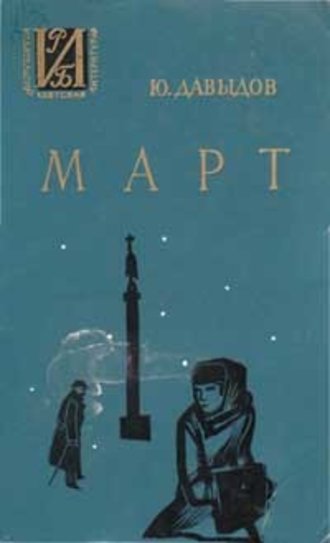
Юрий Давыдов
Март
Глава 8 «УДАР, КОТОРЫЙ ГУЛКО РАЗНЕСЕТСЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ…»
Завтра? Нет, уже первый час; воскресенье, стало быть, наступило. Нынче свершится. И вот она, эта черта, когда надо итог вывести. Надо ли? Надо. Для себя самого.
Прожито двадцать пять. В сущности, каждому отпущено не так уж и много. В Вельском уезде, где глушь, болота, гати, в Вельском уезде есть родовое гнездо – деревня Большие Гриневичи. Там нищие мужики с льняными волосами, водянистый картофель, коровенки на выгонах. И там ветхий дом, фамильный дом Гриневицких. Отец давно вдовеет. Вот уж лет десять, как оборваны нити, и, однако, нынче, у последней черты, вдруг нестерпимо жаль старика.
Меньшой брат Ваня здесь, в Питере. Ему все еще внове, недавно приехал. Ну что ж, пусть послужит. Глядишь, поймет, разберется, что да как оно на белом свете. Жаль, не придется помочь Ванюшке, быстрее б разобрался.
Двадцать пять прожито. Если б начинать сначала? Честно, как на духу. Да, честно: если б начинать сначала, было бы то же, что было. Исполнительный комитет поручал рабочие кружки – пропагандировал за Нарвской и Невской заставами. Наблюдать за царем? Исправно топотал на морозе в своих разбитых сапожонках. Метать бомбы? Кибальчич научил метать бомбы…
Метель на дворе опала, но ветер налетал изредка, и тогда на панелях крутились столбики, по кровлям шел шорох, а в окна, как песком, била снежная пыль.
Медико-хирургическая академия, дома, трактиры, лавки слились чернильно. Дом номер пятьдесят девять по Симбирской улице давно ослеп, лишь полоска света лежала белым шнурком под занавеской в угловом окне второго этажа.
Угловую комнату занимал квартирант, прописанный в участке как виленский мещанин Николай Степанович Ельников. Он жил здесь месяца полтора, хозяйка была довольна: конторщик уходил часов в десять, возвращался поздним вечером, вел себя пристойно, гости у него не гомонили.
Игнатий Гриневицкий не спал.
Позавчера были Желябов с Перовской, Рысаков. Еще раз все примерили. И вот уже нет Андрея. Голос его гудел в этой комнате: действовать в ближайшее воскресенье, ждать нельзя. Нет больше Андрея, нет… Софья сказала: в воскресенье действовать, действовать непременно. У нее был ломкий голос. И, когда она говорила, на лице ее вдруг появилось что-то желябовское, и даже губы, когда она умолкла, сложились, как у него: напряженно и властно.
«Заутра казнь…» Игнатий отложил папиросу и начал писать.
Александр II должен умереть… Мне или кому другому придется нанести страшный последний удар, который гулко разнесется по всей России и эхом откликнется в отдаленнейших уголках ее, – это покажет недалекое будущее. Он умрет, а вместе с ним умрем и мы, его убийцы. Это необходимо для дела свободы, так как тем самым значительно пошатнется то, что хитрые люди зовут правлением монархическим, неограниченным, а мы – деспотизмом. Что будет дальше? Много ли еще жертв потребует наша несчастная, но дорогая родина or своих сынов для своего освобождения?
Ветер швырнул пригоршню сухого снега. И опять тихо. На Симбирской улице тихо, на Выборгской стороне тихо, во всем Петербурге тихо.
Я боюсь… меня пугает мысль, что впереди много еще дорогих жертв унесет борьба, а еще больше – последняя смертельная схватка с деспотизмом, которая, я убежден в том, не особенно далека и которая зальет кровью поля и нивы нашей родины, так как – увы! – история покалывает, что роскошное дерево свободы требует человеческих жертв. Мне не придется участвовать в последней борьбе. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы, не буду жить ни одного дня, ни одного часа в светлое время торжества, но считаю, что своей смертью сделаю все, что должен был сделать, и большего от меня никто на свете требовать не может.
Он не перечитывал написанного. Запечатал конверт. Все. Теперь спать. Он разделся, сложил брюки по складке, набросил пиджак на вешалку и критически осмотрел сапоги, предмет вечных огорчений. Табак саднил язык. Гриневецкий выпил воды. Постоял босиком, о чем-то вспоминая, но так и не вспомнил. Он лег и опять стал курить… Брат явился утром, в назначенное время, и они вдвоем пили чай. Иван, растерянно улыбаясь, рассказывал, что у него неприятности с бригадным командиром. Ходят какие-то слухи об его, вольноопределяющегося Гриневицкого, шаткой благонадежности. И вот, понимаешь ли, учинил генерал давеча словесную экзекуцию. Чертовски неприятно!
– Не беда, – усмехнулся Игнатий. – Всякий порядочный человек в наше милое время не вполне благонадежен. А посему не унывай, а гордись.
Иван пробормотал:
– Ну да, тебе легко говорить.
Грипевицкий рассмеялся: Ванюшка-то надул губы совсем как в мальчишестве.
– Верно, мне говорить легко… Пей, да идем. Есть дело в городе.
– А чего зазвал спозаранку?
– Пей, скажу.
Сказал, когда уж собрались выходить.
– Вот. Держи. – Он протянул брату конверт. – Схорони у себя. Прочтешь завтра. Впрочем… Впрочем, можешь и нынче вечером. Мне хочется, мне очень нужно, чтобы это сохранилось.
Сказано было обыденно, но Иван затревожился:
– Что такое? Что тут?
Гриневицкий опять рассмеялся:
– После узнаешь. Побереги, сделай одолжение. – Он помолчал, взял Ивана за руки, – Моя к тебе просьба. Братская просьба, Ванюша.
Иван взглянул на Игнатия беспокойно, недоумевающе и спрятал письмо без адреса в карман мундира.
По Симбирской улице дошли они до моста, направились через Неву к Литейному проспекту.
С нового моста широко и далеко смотрелось. Будто нездешнее, непетербургское стояло солнце – веселое, языческое солнце Марта. По небу как талые воды разлились. Снег на Неве играл переливчатыми искрами… Огромное, светлое, отрадно-холодное надвинулось и поглотило Гриневицкого. Он удивленно замедлил шаг, хорошо задышал, до конца легких задышал, и вдруг повеяло ему в лицо нежно, робко, сладостно, как бывает только в марте.
Об руку с братом шел Гриневицкий, но была в нем неизведанная прежде радость одиночества, полной освобожденности. И еще так, словно сейчас, сию минуту он отгадает какую-то ослепительную тайну. А тайна не давалась, отступала, будто маня перейти мост. Но это не огорчало Гриневицкого; напротив, все больше и все сильнее, почти уж до физического ощущения, полнило бурной и немой любовью ко всему, что было в этом мартовском мире.
– Что с тобою, брат?
– А… Да, да… – проговорил Игнатий, встряхивая головой. – Вот, Ваня, как хорошо… Да, да… А видел бы ты, дружок, старый, прежний мост. Чертовым звали. Здесь, на этом вот месте, разводная часть была. Деревянная, низкая-низкая. Ее, бывало, напором воды горбом поднимает, а после – наледью. Хоть караул кричи: падаешь, скользишь. А лошади – вот уж несчастные! Ух, и драли их ломовики, нещадно драли. И мне всякий раз, как увижу, Достоевский на ум. В «Братьях Карамазовых» помнишь? Нет? Ну как же…
Иван слушал не то, что Игнатий говорил, а что в голосе его было. Слушал и сознавал: творится с Игнатием что-то важное, серьезное, страшное. А что – понять не мог.
Кончился мост, слился с Литейным. Неловко и коротко, как однорукий, Гриневицкий обнял брата, обжег ему ухо: «Не унывай, гордись!» – и, тотчас отстранившись, побежал, словно земля ему помогала, за конкой.
– Гнатик! Гнатик! – закричал Иван, охваченный внезапным смятением. – Гна-а-а-тик…
Так звали его дома, в детстве, в деревне Большие Гриневичи. Он не услышал – конка покатилась…
* * *
…Отстояв заутреню в дворцовой церкви, Александр прогулялся по набережной, потом, после кофе, велел позвать куафера.
– Молле, – сказал император парикмахеру, – позаботьтесь о моих усах. Хорошенько позаботьтесь, Молле!
Француз мелодично звякнул золоченым прибором и взялся за дело. Сухая невесомая рука уверенно и быстро поводила бритвой, слышалось слабое шуршание, приятное и брадобрею и императору.
Потом Молле принялся за усы. Большие, пышные, соединяющиеся с такими же пышными бакенбардами, усы эти требовали истинного куаферского мастерства.
Молле слегка подстриг и подвил их, чуть загнул кверху, ласково щелкнул щипцами, схватил зеркало и, отступив, изогнувшись, забросил одну руку за спину, а другую – с зеркалом – вытянул.
Александр увидел крупное надменно-приветливое лицо с глянцевитым подбородком и залысым покатым лбом… Черт побери, совсем недурно для человека, которому без малого шестьдесят три. Говоря по чести, он еще молодцом, и нынче в манеже им полюбуются лейб-гвардейцы.
Александр поднялся с тем чувством обновления, какое бывает после бритья, и предоставил себя камердинеру.
Пришел Лорис-Меликов, доложил, что в девять утра градоначальник собрал у себя на квартире полицмейстеров и приставов.
– Он передал им ваше, государь, совершенное удовольствие деятельностью полиции.
– Пусть стараются, пусть стараются, – заметил император точно таким тоном, каким он говорил Молле о своих усах. И взглянул на карманные английские часы. – Пора. Не люблю, когда меня ждут.
Но Лорис-Меликов не двинулся с места: он опять, как вчера, ждал. Он смотрел на Александра темными, чуть маслянистыми глазами, смотрел, не смаргивая, не опуская тяжелых коричневых век.
– Ах, это… – сказал Александр с досадой. И добавил с оттенком хмурого лукавства, словно бы вывертываясь из Лорисовых рук. – Да, непременно передам Валуеву.
Император втайне надеялся, что председатель комитета министров из личной неприязни к «диктатору» отыщет какие-либо причины для проволочки с публикацией правительственного извещения. Александр знал: у Лориса с Валуевым небольшие разногласия относительно созыва представителей, они скорее единомышленники, нежели противники. Но Александр знал и другое: когда нет гласности, когда дела решаются келейно, когда годами дышат дворцовой атмосферой, личные отношения – весьма солидная гиря на чашах государственных весов. И потому надеялся на Валуева.
Повидавшись с Петром Александровичем и почему-то совершенно уверовав в его помощь против настояний Лориса, император вновь обрел отличное расположение духа.
В сенях его, по-обыкновению, провожал министр двора. «Да, и пыткою!» – вспомнилось Александру.
– Послушай, – доверительно сказал он Адлербергу, – я думаю, арест этого Желябова будет иметь большие последствия. – И повторил значительно, весело, с удовольствием: – Бо-ольшие последствия, граф!
Сине-черная с золотом карета, казаки верхами на терских жеребцах, полковник Дворжицкий и начальник охраны капитан Кох поджидали у Комендантского подъезда.
Едва показался государь, ординарец Кузьма, быстро перебирая кривыми кавалерийскими ногами, выбежал из-за спины его, нажал золоченую ручку, и дверца с большим зеркальным стеклом отворилась бесшумно и плавно.
Император, садясь в карету, ощутил упругую силу рессор, чуть подавшихся под тяжестью его крупного тела, бодро бросил кучеру:
– Через Певческий мост – в манеж.
* * *
Воскресный завтрак (петербуржцы говаривали «фрыштик», грубо ударяя на «ы») был позднее будничного. А ближе к полудню петербуржец совершал прогулку, променад по Невскому.
Первого марта, когда в город забрел шалый ветер и веская капель защелкала звучно, Невский был полон. Дамы в модных шляпках из магазина Мюнкса, фаты в английских цилиндрах из магазина Друса, студенты, разговаривающие слишком громко, и конторщики, разговаривающие слишком тихо, чиновники, офицеры – вся эта публика, в шинелях, в пальто с бархатными воротничками или в непромокаемых макинтошах, шаркала, кланялась, щурилась, посмеивалась.
Бойко щелкала капель, форсисто цокали лошади по мостовой, все смотрело празднично. Невский был полон, на Невском держался смешанный запах одеколона, недавно выглаженных брюк, конского пота и сырых торцов.
Ресторация Андреева, против Гостиного двора, помещалась в полуподвале. Перовская сидела в ресторации с Гриневицким и Рысаковым.
Софья была спокойна. Она не знала, откуда взялось спокойствие, но оно «взялось», когда она вышла из Гесиной квартиры на Тележной и вдруг вспомнила, что в народе первый мартовский день зовут «Евдокией-свистухой» или «Евдокией – подмочи порог».
После ареста Андрея Софья не была дома. Не потому только, что показаться там значило налететь на полицейскую засаду, но и потому, что дом этот больше не существовал для нее. Нет, она ни за что не переступила бы порог комнаты, где прожили они несколько месяцев. Вместе прожили… Вместе до прошлой пятницы… А в прошлую пятницу в сумерках они взяли извозчика и по Большой Садовой доехали до Публичной библиотеки. Андрей спешил к Тригони. Они расстались у стены с потрескавшейся штукатуркой и водосточной трубой, под которой рыжело пятно. И он не вернулся…
Минувшей ночью Софья была у Геси, на Тележной. Они не говорили о мужьях – ни о Николае, ни об Андрее. У Геси по сторонам пробора – седые прядки. Геся на сносях; она молчалива, у нее тяжелая походка, одышка. Они почти не спали минувшей ночью. Окаянно тикали часы. В темноте взмахи маятника чудились взмахами маленькой острой секиры – все ниже, все ниже, у самого горла… Как в каком-то рассказе о китайских казнях.
Андрей должен был расставить метальщиков и подать им знак там, на набережной Екатерининского канала, если царь не поедет мимо магазина сыров. Андрей должен был расставить метальщиков и подать им знак. Теперь она за Андрея, и она это сделает. Он сказал ей однажды: «Если царь будет убит, я удовлетворенным взойду на эшафот». Они не спали с Гесей всю ночь, в ночь с февраля на март… А утром на Тележной, где вдали нежарко горели купола Александро-Невской лавры, вдруг и «взялось» это спокойствие, с которым она теперь сидит в ресторации Андреева, что против Гостиного двора, на Невском проспекте.
– Ну, ну, – говорит Гриневицкий, улыбаясь одними глазами. – Ну, чего ж вы? Деньги плочены – надо пить и есть.
Он легонько погладил Софьину руку, она кивнула ему и принялась за кофе. Рысаков, одутловатый, бледный, будто хворый, разломил пирожок, сунул в рот, пригубил кофе, обжегся и сморщился.
Из ресторации вышли в половине первого. Рысаков и Гриневицкий несли свертки: в коленкор были завернуты бомбы.
* * *
Софья шла мимо лечебницы на Малой Садовой. В окне «Склада русских сыров Е. Кобозева» она заметила круглолицую, повязанную платком Анну Якимову. Вот так же и Софья зимней московской ночью стерегла царя, чтобы подать сигнал товарищу, который должен был сомкнуть контакты гальванической батареи.
На площади перед манежем, куда только что проследовали батальон пехотинцев и батальон лейб-гвардии саперного полка, разъезжали жандармы, а Большая Итальянская улица и садик посреди площади были забиты публикой.
Вот уже на Большой Итальянской публика заволновалась, послышались говор, шум, движение, и Перовская поняла: «он» не проедет Малой Садовой, «он» поехал через Певческий мост, набережной Мойки, по Конюшенной.
– Едет! Едет!
Сине-черная карета, перевесом казачьи пики, загнутые ветром шляхетские усы полковника Дворжицкого, плечо капитана Коха – все это вихрем, вихрем…
Кучер Фрол, откинувшись, забрав вожжи в огромный, пудовый кулак и вытянув губы в громогласном «тпр-р-ру-у-у», осадил у распахнутых ворот манежа. Серые, в яблоках лошади, фыркая и звякая удилами, затрясли гривами.
В манеже, выгибая грудь и привстав на носки, закричали батальонные командиры. Солдаты взяли на караул. Грянула полковая музыка. Александр появился в манеже.
… Софья выбралась из толпы, чуть не бегом заспешила по Итальянской. Первым попался ей на глаза Рысаков. Она вытащила из муфты платочек. Рысаков нелепо перебрал ногами, будто пятясь, но тут же круто повернул к набережной. Потом она увидела Игнатия с прилепившейся в уголках твердых губ папироской. Она опять вытащила из муфты платочек, и Гриневицкий направился за Рысаковым.
«Если царь будет убит, я удовлетворенным взойду на эшафот». Царь будет убит, ему уж некуда деться: на Малой Садовой ждут, на Екатерининском ждут. И он не доедет до Зимнего.
На Невском неспешно шаркали. Лоснились цилиндры, пахло одеколоном, лошадиным потом, сырыми торцами. Перовская пересекла Казанский мост, оказалась на набережной Екатерининского канала. Но не на той стороне, где расхаживали со своими свертками Гриневицкий и Рысаков, а на противоположной. И остановилась там, откуда хорошо были видны и метальщики, и каменная стена Михайловского сада, и тесный поворот с Инженерной улицы на набережную.
В сквозящей черноте Михайловского сада граило воронье. Ветер куделил над крышами сизый дым. И капель позванивала, как в орлянку играла.
Софья услышала отдаленное «ура», – в теплой муфте заледенели руки. А там, на другой стороне канала, но еще не на набережной, а в узкой Инженерной улице была гром и вихрь. Кучер с адъютантом на козлах, золотые коронки над фонарями, зеркальное окно, усы Дворжицкого, плечо капитана Коха, казачьи пики, башлыки…
На повороте кучер придержал упряжку. Конвой поотстал. Карета выехала на набережную, следом шерошил снег, темный и крупный, как сырая соль.
* * *
Председатель комитета министров недолюбливал Лорис-Меликова. Валуев заглазно звал его «хвастливым правителем», а то и «Мишелем Первым» – заграбастал, дескать, слишком жирный, царский кус власти.
Но как бы там ни было, Валуев поддерживал идею созыва «представителей земли русской». Правда, Лорис проектировал Общую комиссию, а он, Валуев, – «съезд государственных гласных». А вообще-то, если в корень, их взгляды близки. И Петру Александровичу, ей-богу, досадны утрешние намеки государя. У них с императором свои счеты, и, черт возьми, на этот раз граф Петр Александрович Валуев может себе позволить «неуловление» высочайшей воли.
Вернувшись из дворца, Валуев затворился и сел читать проект правительственного извещения. Читал быстро, все было знакомо. Приговаривал: «Весьма хорошо… Весьма…» Похваливая Лориса, он мысленно воздавал должное собственному беспристрастию. Да, да, он старый, понаторелый деятель, не чета Адлербергу, который хоть и не дурак, но всего-то навсего «комнатный человек» при государе. Нет, Петр Александрович не намерен потакать императору, губящему Россию. Император требует еще одного обсуждения? Прекрасно! Император получит еще одно обсуждение. Еще одно и последнее: в среду в час тридцать соберется комитет министров.
Заготовив об этом всеподданнейшую записку, Петр Александрович, радуясь доброй погоде, поехал на Мойку, к Лорис-Меликову.
У Михаила Тариэловича внезапно обострился бронхит. Он кашлял, кутался в плед, но, когда доложили о визите Валуева, велел поскорее просить Петра Александровича.
Они уже обменялись обычными, ничего не значащими любезностями, они уже уселись, но тут… тут словно бы выгнул оконные стекла тяжелый глухой удар.
Валуев вздрогнул:
– Кажется, покушение?
– Невозможно! – вскрикнул Лорис и прижал руки к груди.
* * *
Как всякий арестованный, Желябов некоторое время чувствовал себя оглушенным. Мысли его были несвязными и пустяковыми. По дороге из градоначальства в Дом предварительного заключения Андрея охватила такая бешеная, такая слепая злоба, что впору было зубами скрежетать, и он, кажется, скрежетал. Была ужасная, нестерпимая насмешка в этом аресте накануне воскресенья.
Он знал: все готово. Он знал: его заменят. И все-таки, запертый в этой опрятной сухой камере, он не мог отвязаться от мысли, что без него все рухнет. Он твердил самому себе: ты хоть и главный участник, но есть Соня, есть метальщики, есть Волошин и Кибальчич, есть сырный магазин… В десятый, в сотый раз с той маниакальностью, какая бывает в тюрьме и в сумасшедшем доме, перебирал он доводы «за» и «против».
Голова его была тяжелой, в ушах звенело. Он едва дождался воскресного утра. Не притронулся к завтраку. Часы у него покамест не отобрали, железные часы с цепочкой; он не сводил с них глаз.
Перед обедом Желябова вывели на прогулку. Он не видел голубизны неба, не слышал ни слабого запаха талого снега, ни щелчков капели. Стоял посреди тюремного дворика. Ждал.
Уже заскрипела дверь прогулочного загона, и прыщавый надзиратель сделал сумрачный жест ключом, приглашая заключенного в камеру, и Желябов, помешкав, уже сунул руки в карманы пальто и шагнул к калитке, когда вдалеке тяжело и глухо прокатился взрыв.
* * *
С пятницы будто переставили рычаги времени, рывками оно ринулось: утро – вечер – ночь – утро… Без приметных переходов. И стало плотным, как река, когда плывешь под водой.
Поздним вечером, в пятницу, на Вознесенский проспект, где теперь сходились члены Исполнительного комитета, пришла Перовская и сказала, что Андрей не вернулся домой. Она сказала об этом высоким ломким голосом. Лицо у нее было неподвижное.
Не арест Желябова – этот ее голос ударил Волошина в душу. В комнате заговорили взволнованно, негромко, перебивчиво, как-то робко подступая к Софье, но Денис не слышал, о чем говорили товарищи. Он смотрел на Сонины руки с узкими запястьями, на ее пальцы, которые были в непрестанном движении, и ему на мгновение вспомнилось, как рождественской ночью Софья с Андреем, осыпанные блестками снега, озаренные уличным фонарем, уходили об руку к себе домой и как он тогда ощутил что-то похожее на зависть и колкую неприязнь к Желябову.
Денис вполуха слышал, о чем шла речь, слышал, как Софья, несвойственным ей высоким и ломким голосом повторила желябовское: «Если царь будет убит, я удовлетворенным взойду на эшафот».
Денис подумал: заменю Желябова… Но он все еще не сводил глаз с Сониных рук и не мог понять, что с ним происходит. Одно он сознавал ясно, хотя как бы издалека: арест Желябова – невосполнимая потеря для комитета, для организации, но это… это не его, Волошина, личная потеря. Когда взяли Сашу Михайлова, он чувствовал физическую боль, как при пулевом ранении в Черногории.
Не арест Желябова, но Соня, ее мучающиеся руки с узкими запястьями… Денис поднялся. Он хотел просить товарищей дать ему исполнить то, что должен был исполнить Желябов. Но, поднявшись, встретился взглядом с Перовской, и у него мелькнула мысль, что она догадалась, как он принял известие об аресте Андрея.
– Я все сделаю за него, – медленно, как бы даже с угрозой сказала Перовская. – Я, и никто больше.
– Что? Как? – бессмысленно переспросил Денис, и вдруг, словно пойманный с поличным, густо покраснел.
С той пятницы переменилась скорость времени. Всё, кроме воскресного покушения, – всё прочее отодвинулось, отошло в сторону, одно осталось – неотвратимо надвигающийся день, первый день марта.
Неделю назад, ничего не сказав ни Желябову, ни Перовской, ни другим членам комитета, Денис окончательно уговорился с солдатами Алексеевского равелина, и они обещали провести «их благородие» в крепость. А теперь Волошин даже позабыл предупредить приятелей с Малой Пушкарской, чтобы они его не ждали.
В ночь на воскресенье Денис был у Кибальчича. В мастерской плавал душный и острый запах динамита. Окна были плотно занавешены. Казалось, нет ничего в мире. Только овальный стол со слесарными инструментами, лишь металлическая хмурь метательных снарядов.
Кибальчич работал без устали. Лицо его, всегда спокойное и как бы флегматичное, пылало. Он только приказывал: дайте то-то, возьмите это, делайте так-то. Ему повиновались мгновенно. Никто за всю ночь не затянулся папиросой.
Была лампа над столом, был овальный стол, инструменты. Были бомбы. Стлался по комнате душный острый запах динамита.
Бомбы завернули в куски коленкора. Получились свертки точь-в-точь такие, в каких модистки разносят заказы.
Метательные снаряды забрала Софья.
– Я буду ждать в кофейне, – сказал ей Волошин. И поспешно прибавил: – После, после того… И отвезу к Гесе.
И вот он на Невском. Щегольское пальто офицерского покроя, котелок, тросточка.
Сверкала капель, били копыта, шаркали, шаркали сотни ног.
До смерти хотелось есть, мутило от голода, почти сутки ничего не ел. По обеим сторонам проспекта были ресторации, кофейни, кондитерские, но он и не подумал, что может туда зайти.
Денис слонялся у Гостиного двора, у башни с часами, близ Казанского моста. У него был больной вид, на него озирались прохожие.
Он не замечал ничего.
К нему привязался канканный мотивчик. Денис слышал его на Приморском бульваре в Одессе, когда закончил свои «динамитный рейс». Мотивчик жужжал, Денис потряхивал головой, но дурацкое «ли-ля-ля, тру-ру-ру, ля-ля» не уходило, жужжало, мучило.
«А, чтоб тебя», – сморщился Денис и обмер: на Екатерининском канале резко треснул взрыв.
* * *

Жеребцы ошалело вздыбились. Кто-то закричал, кто-то рухнул в снег. Черная едкая туча заволокла карету, набережную, каменную стену Михайловского сада.
Секунду-другую туча висела мороком. Эхо взрыва, дробясь о фасады домов, умирало в жалобном дребезжании стекол.
И вдруг откуда-то вынырнул Рысаков.
– Держи! Держи! – вопил он, со всех ног бросаясь к Невскому.
Рысаков знал, что городовой и пристав, торчавшие на Театральном мосту, заметили его, заметили и узелок в его руках. Теперь узелка не было: бомба была брошена под колеса кареты. И он бежал, вопил.
Из ворот выскочил дворник, швырнул лом, как рюху, и Рысаков, присев от боли, завертелся волчком. На него с ходу шмякнулся подоспевший городовой.
Грязный, с прожелтью дым волочился по булыжнику, цеплялся за решетку канала. Задок кареты был разворочен – пружины, войлок, кожа свисали и топорщились.
Полковник Дворжицкий, оглушенный, с дергающейся окровавленной щекою смотрел ничего не соображая, как отворилась дверца с осколками зеркального стекла, как показался лакированный сапог. В гудящем сознании полицмейстера мелькнуло: «Вывеска», – ему почудилась вывеска сапожного мастера.
Из кареты вылез император. Его пьяно шатало. Медленно, как гирю поднимая, он перекрестился.
– Преступник?
– Схвачен, ваше величество… – Полковник всхлипнул. – Государь… в мои сани. Надо во дворец. Государь, умоляю… Опасно…
– Хорошо… Еду… – Александр тупо глядел на толпу, на спешившихся конвойных. – Но прежде… Где он?
Капитан Кох с обнаженной саблей держал за шиворот Рысакова: драповое пальто растерзано, клетчатое кашне сбилось, лицо в кровавых ссадинах.
Александр двинул подбородком:
– Этот?
– Т-т-точно так… – У Коха плясали губы. – Н-н-на-звался Глазовым.
– Хорррош, – захрипел император, грозя Рысакову пальцем, повернулся и пошел к саням Дворжицкого, ступая, как по молодому льду.
А там, рядом с санями, прислонился к решетке Гриневицкий со своим черным коленкоровым свертком. Александр увидел этот сверток, мгновенно, со слепящим ужасом все понял. Горло его расперло воем, но он не взвыл, не крикнул, а шагнул, как заведенный, покорно и отчетливо сознавая: «Смерть… Смерть…»
Руки с бомбой взметнулись.
«И небеса над головою твоею сделаются медью, и земля под тобою железом».







