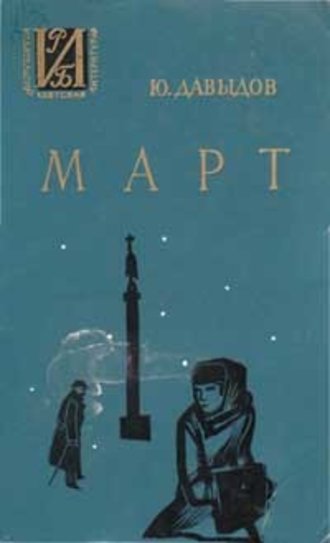
Юрий Давыдов
Март
Глава 16 ДЛИННЫЕ ЛЕТНИЕ ДНИ
Отблистали молодые грозы, погоды устоялись, «приличная публика» двинулась в подгородные, дачные местности.
Ломовики спозаранку тарахтели. Дворники, покряхтывая, тащили корзины, самовары, перины. Барыни сжимали виски: «Да тише же! Тише! Ах, боже мой, разобьют!»
Наконец все увязано, все уложено, можно, кажется, и трогать. Нет, горничные и кухарки чего-то бегают, чего-то вскрикивают, а барыня нервически постанывает: «Всё взяла? Ничего не забыла?» – «Всё, матушка, как есть, всё». – «Ну смотри мне!»
А грузчики похаживают около возов, похлопывают то там, то здесь, подтягивают веревки и в предвкушении чаевых осторожно косятся на барыню. Та поспешно, будто у нее уже ни минуты, сует им деньги, они скребут затылки: «Маненько ба и прибавить. А, барыня?» Тут раз на раз не приходится. Одна, порывшись в ридикюле, глядишь, и подсыплет медяков, а другая кикимора бровками передернет: «Ступай, ступай! Все равно пропьешь!»
Ломовики берут каурых да саврасых под уздцы. Господа усаживаются в пролетки, куда уж понапиханы картонки, кулечки и непременно бутылки с кипяченой водою, будто предстоит переезд Сахарой, и рядом клетка с кенаром, который беспокойно вертит головой, не понимая, что ж это такое творится на белом свете, и подушки, и еще что-то, а в последнюю минуту бежит, как на пожар, кухарка с самоварной трубой, а на нее негодующе машут руками барин, барыня, дети, гувернантка: «Куда? Куда? Нет места! Нету!»
Кухарка горестно замирает в обнимку с самоварной трубой, но тут который-нибудь из ломовиков с мужской снисходительностью берет злосчастную трубу, и тогда в пролетках облегченно вздыхают. «Пошел!» – командует барин. «С богом!» – добавляет барыня, мелко крестясь.
А на вокзалах тоже суета. Студенты и курсистки едут под родные липы, к маменькам и тетушкам; чиновники посолиднее берут билеты до Баден-Бадена; адвокаты, из тех, у кого практика еще не велика, едут на липецкие воды, коммерсанты среднего достатка туда же или на Кавказ. Артельщики-носильщики сбились с ног, помощник начальника станции в мыле, и только обер-кондукторы, народ походный, хранят спокойную важность.
В окрестностях Петербурга уже открылись летние театры. Антрепренер из Озерков умолил старика Самарина, московского домоседа, сыграть Фамусова. В Павловске со дня на день ждали Ермолову. В Ораниенбауме давали «Укрощение строптивой» и «Нищие духом» с Федотовой и Ленским. На островах цыганские гитары взметнули широкий стон, со сдержанной страстью повели рыдающие голоса:
Зеленые дубы, ах, дубы, дубравушка,
Эта дубравушка, листочки золотые…
Гвардейские полки, бросая слепящие брызги фанфар и труб, мерно колеблющимся строем уходили из зимних квартир в Красносельский и Петергофский лагеря. И казалось, сам император Петр Великий вот-вот ускачет куда-то со своего Гром-камня, похожего на гривастую морскую волну.
Скоро быть Петербургу в ремонтах, побелках, покрасках, скоро явятся в Петербург артели бойких ярославских каменщиков, артели двужильных вологодских плотников, а дремучие новгородские горюны вплывут в каналы и речки на грузных баржах-дощаниках. И запахнет штукатуркой, известкой, дресвою. Нет, не житье «приличной публике» летней порой в Петербурге.
Но, как и во всякое иное время, клонились, текли по городским горизонтам грязные султаны заводских дымов – и на Шлиссельбургском тракте, и за Нарвской заставой, и на Выборгской стороне. Как и в иное время, похаживали караульщики у полосатых шлагбаумов, у насупленных стен тюремного Литовского замка, в гулких коридорах Дома предварительного заключения. И по-прежнему тяжело и звучно отзванивали куранты Петропавловки.
Он был особенно громогласен, этот бой курантов, здесь, в маленьком дворике Алексеевского равелина.
Нечаев садился на скамейку под березкой. Доносились пароходные свистки, обрывки музыки из Летнего сада. И Нечаев вместе с березкой слушал эти звуки, и вот уж восьмой год сердце екало: можно привыкнуть к серой тишине каземата, но к голосам воли привыкнуть нельзя. Слон в зверинце на Петербургской стороне тоже не мог к ним привыкнуть, и Нечаев иногда слышал его трубный тоскующий африканский вопль.
Облака над равелином повторяли абрис мира – островов и материков, – огромного мира, который ведь все-таки существовал, хотя порою чудилось, что ничего и нигде нет, кроме мшистого камня, смертного холода железа, проклятого перезвона колоколов:
«Боже, царя храни…»
* * *
Бог хранил его в Царском Селе. Туда перебрался двор, средоточие империи переместилось из Зимнего в сень царскосельских рощ.
Глава Верховной распорядительной комиссии генерал-адъютант граф Лорис-Меликов жил рядом с государем, во флигеле Большого дворца. По старой армейской привычке, Михаил Тариэлович вставал рано и занимался гимнастикой в полном соответствии с системой доктора Кнапфеля. За сим, невзирая на частые бронхиты, лил на себя холодную воду. Денщик, бывший кавалерист, крепко растирал волосатое их сиятельство жесткой губкой. Граф крякал, фыркал, кричал: «Скребницей чистил он коня!» – денщик наяривал пуще.
Расчесав бакенбарды, усы и подусники, Михаил Тариэлович отправлялся на променад. С государем сходились они в один и тот же час, щеголяя военной пунктуальностью. Прогулочный маршрут был неизменен, и эта неизменность тоже была привлекательна.
Как обычно, справились о здоровье, покойно ли прошла ночь, и, как обычно, на минуту умолкли. Пауза означала, что теперь начинается беседа именно та, какая должна быть у императора с первым после него лицом в государстве. Однако, в отличие от зимних кабинетных встреч, прогулка в парке, у розовеющих прудов, когда так хорошо разгорался длинный летний день, придавала беседам некоторую домашность. Нынче Лорис решил высказать мысли, давно его занимавшие. Лорис уже высказывал их министрам Милютину и Абазе, высказывал и председателю комитета министров Валуеву, находя сочувствие и понимание, но все еще не улучил случая откровенно переговорить с Александром.
– Ваше величество, – начал граф, пошевеливая черными щетинистыми бровями, – вы знаете, я не взращен в петербургском климате и не зачумился от здешних сановников.
Александр кончиками длинных белых пальцев любезно тронул руку Лориса.
– Пожалуйста, Михаил Тариэлович. Откровенность и еще раз откровенность.
– Все, что я имею сказать, ваше величество, есть плод долгих размышлений. Сознаюсь, мысли эти набегали и прежде, но лишь с высоты, на которую вам благоугодно было меня вознесть, – лишь оттуда я отчетливо, так сказать стратегически, охватил всю картину.
Предисловие затягивалось, но Александр был слишком хорошо воспитан, чтобы обнаруживать нетерпение в столь восхитительное утро.
– Материалы сенаторских ревизий, ваше величество, уже поступают, и уже можно делать определенные выводы. И тут вопрос: зависят ли недостатки от одних лишь злоупотреблений или…
– Или от самого устройства?
– Точно так, ваше величество. Я склонен полагать: не в одних злоупотреблениях корень. Но, боюсь, еще рано делать выводы. Однако материалы ревизии потребуют дальнейшей и самой серьезной разработки.
– А потом, граф, и законопроектов?
– Ваше царствование, государь, – ответил Лорис, слегка повышая голос, – историки назовут великим, ибо оно ознаменовалось благими предначертаниями и…
– За которые мне и отплачивают покушениями, не так ли?
– Ваше величество, – взволновался Лорис, – ваше величество, ведь это ж не Россия, не русский народ! Это же шайка злодеев! Но поверьте, государь, лжеучения не проникли в глубины, не заразили, а чтобы совладать с шайкой фанатиков, надо иметь сильную, деятельную и толковую полицию. Конечно, ваше величество, полиция у нас весьма далека от совершенства, однако, позвольте заметить, нигилисты притихли, а…
– Да, я замечаю, граф. И я почти удовлетворен. Почти. Ну хорошо. Продолжайте.
– Я осмеливаюсь повторить, ваше величество: противу злодеев нужны самые энергические меры и почивать на лаврах мне не приходится. Что ж до огромного… до огромной массы населения, то ведь еще Екатерина Великая говаривала, что одними пушками нельзя… Сенаторские ревизии, повергнутые на ваше благоусмотрение, дадут очень многое. Однако перед тем, как составить новые законопроекты…
– «Составить»? – усмехнулся Александр. – Вот ты и попался, Михаил Тариэлович: ведь в мыслях своих уже держишь эти самые законопроекты. А?
Лорис ответил проникновенно:
– Я на это надеюсь, ваше величество. Но… но если вы решительно отвергаете, то воля вашего величества, без сомнения, священна, и я должен умолкнуть.
И он умолк.
На берегу пруда отставные матросы драили лодки желтым мелким песочком. Заметив императора, старики поспешно стащили бескозырные шапки. Александр кивнул, покосился на Лориса.
– Да-да, слушаю, граф. – Он взял его под руку.
– Мне думается, ваше величество, – ободрился Лорис-Меликов и постарался предать своей руке совершенную невесомость, – думается, было бы весьма полезно выслушать людей практических, из городов и весей, государь. Тех, что знают жизнь не из петербургских журналов и не по «Московским ведомостям», а практически.
Александр выпятил нижнюю губу, он опять был похож на своих родственников-немцев.
– То есть? – спросил он холодно. – То есть что же это? Вы полагаете созыв как бы представителей?
– Знающих местную жизнь, государь, – повторил Лорис, – действительную жизнь, и с мнением которых нельзя не считаться.
– Это что же? Это… это… генеральные штаты?
– Ни на гран, – с горячностью ответил Лорис, – ни на йоту. И никаких конституций. Это было бы пагубно для России. Ничего иного, ваше величество, как только подобие комиссий, каковые с вашего соизволения сбирались при разрешении крестьянского вопроса. Ведь тогда, государь, приглашали людей практических, не из канцелярий…
– Увы, времена иные, – вздохнул Александр. – Теперь, – он ударил на слове «теперь», – это было бы принято как уступка, как первый шаг к конституции.
Лорис остановился, снял фуражку и перекрестился.
– Господи, спаси Россию от конституции.
Александр, повернув свою крупную голову, пристально посмотрел ему в глаза, сказал без улыбки:
– Послушайте, граф, клянусь честью, я бы тотчас даровал конституцию в европейском духе, когда бы знал, что люди от этого станут счастливее. Но опыт Европы показывает обратное.
– Вы совершенно правы, ваше величество, – торопливо согласился Лорис, вскидывая брови, – но в моем проекте нет того, что эта шайка разумеет «конституцией». Простите, государь, мое волнение, я, должно быть, неловко выразился, если можно было уловить тень… м-м-м… печальной памяти французских генеральных штатов.
Александр молчал.
Лорис виновато потупился:
– Осмелюсь покорнейше просить, ваше величество, не хоронить теперь же… О созыве, ваше величество. Дать созреть…
Вода в пруду переплеснула, осколками радуг дрожали стрекозы. На железных скамейках блистала роса. Мрамор античных статуй снежно сквозил за листвою.
– Ну-с, хорошо, Михаил Тариэлович, – рассеянно проговорил император.
И Лорис понял, что пора бы уже переменить разговор. И переменил:
– Вчера не решился, ваше величество, поздно курьер прибыл. Среди прочего – рапорт барона Майделя.
– Что там у него?
– Происшествие, ваше величество. В Трубецком бастионе при раздаче пищи унтер-офицер заглянул в нумер сорок шестой и увидел, что содержавшийся в нумере повесился: стоит на коленах перед раковиной, на шее полотенце, а другой конец к крану привязан.
– Фамилия?
– Гольденберг, ваше величество.
– Тот самый?
– Тот самый, ваше величество. Оставил пространное объяснение побудительных причин.
– И что же?
– Муки совести. Пишет, прокурор Добржинский кругом его обманул, сумел, дескать, внушить, что правительству надо знать мотивы террора, имена террористов, чтобы сговориться о прекращении взаимных преследований, ну и прочее.
– А-а, помню, помню. Убийца Кропоткина? Гм… Фамилия?
– Гольденберг, ваше величество.
– Да нет, прокурора… Добржинский? Из поляков?
– Не знаю, ваше величество, но умен и ловок.
– А вы его отметьте, граф, непременно отметьте.
– Слушаюсь, ваше величество.
– Ну, а еврейчик-то положительно глуп. Впрочем, что ж? Пожалуй, и не так глуп. Его поляк обвел, а он русака: ушел-таки от Фролова.
При имени палача Лорис натянуто улыбнулся. «Надо признать, – подумал, – шутка не из тонких». Вслух же сказал:
– А кстати, ваше величество, об евреях… Может, и не кстати, да уж коли речь зашла. Как ближайший виновник сенаторских ревизий, я имею обыкновение обращаться к различным осведомленным лицам и нередко получаю пространные мемории. – Он сокрушенно покрутил головой. – Хоть особый архив заводи, ваше величество. Так вот, недавно еще один – с жалобами на положение евреев.
– Неугомонное племя…
За плавным поворотом аллеи, на пруду шумной веселой мельницей били крылья лебедей. Лебедей кормила княгиня Юрьевская, и Александр заторопился, шаг его сделался пружинист. Лорис, как с разбегу, досказал:
– Там, ваше величество, что-то о «вековых оковах», об ограничениях… Словом, еще один вопрос среди прочих наших вопросов.
– Да какой же тут вопрос, граф? – досадливо отмахнулся император. – И вопроса-то никакого нет, все это надуманно и ненужно.
К черту конституции, дурацкие самоубийства, надуманные проблемы в ермолках и пейсах: сейчас за плавным изгибом аллеи ты увидишь свою Кэтти… (Граф Лорис приотстал, свернул на боковую дорожку, скрылся…) Сейчас ты увидишь Кэтти, полную, цветущую, утреннюю, мило заспанную, тридцатитрехлетнюю… Молодым вертопрахам не понять любви, завладевшей старым сердцем. Хихикают: «Седина в бороду, бес в ребро». Глупцы! Поди объясни им чувство второго дыхания, прощальной, щемящей радости бытия. В преклонные годы обретаешь истинную гармонию всего существа. Господи, да разве тогда, много лет назад, в Германии, была любовь? Пожар крови, туман, грезы. И дочь великого герцога Гессенского – «подруга жизни», императрица всероссийская. Вот и все… Нет, подлинной любовью одаривает закат. Солнце садится за горами прожитого, смеркается, но тебя греют косые, полновесные лучи.
Бедная Кэтти! Перед нею, светлейшей княгиней Юрьевской, заискивают и ее же презирают. Бычок даже не трудится скрывать неприязнь, Бычка передергивает, когда Кэтти зовет отца уменьшительным именем. И однажды позволил себе грубый намек: дескать, их сиятельство устраивает сомнительные делишки сомнительным людишкам – концессии, подряды… Что ж, быть может, и так! У Кэт дети, его, императора, дети, и Кэт, естественно, озабочена будущим детей. И он тоже. В солидном банке положены миллионы… Сейчас за плавным поворотом аллеи ты увидишь свою Кэтти. Скорее же, прибавь шагу. Слышишь, как шумят лебединые крылья? Вот уж сквозь кусты белеет ее стан, полный и вместе гибкий, ее шея и тяжелые прекрасные волосы, ее соломенная шляпка.
Она обернулась, глаза ее вспыхнули, и Александр почувствовал себя совершенно и окончательно счастливым.
* * *
После завтрака граф Лорис-Меликов занялся очередными записками, рапортами, телеграммами. Входили и выходили чиновники особых поручении. Лорис выслушивал их, опуская очки на нос. Отдавал распоряжения, по-военному краткие. И, вздев очки, снова читал и писал.
В нынешней почте из Третьего отделения было сообщение об «известном арестанте», и Лорису на мгновение привиделось худощавенькое лицо Нечаева, его узкие глазки, широкий лоб, откинутые темные волосы.
Весной, в канун пасхи, Лорис отчасти из любопытства, отчасти по служебной надобности осмотрел «секретный дом».
В Алексеевской равелине граф спросил узника об его самочувствии. Нечаев ответил, что он, по всей вероятности, не доставит правительству удовольствия видеть его сумасшедшим. Лорис возразил, что заключенный отбывает наказание не в Турции, а в России и никто не намеревается лишать его рассудка. Нечаев хрипло рассмеялся: «Янычары, ваше сиятельство, везде янычары. Тут география ни при чем. а равно и национальный характер. – И угрюмо насупился: – Как же? Присылают несколько книг на месяц. Я прочитываю их в неделю. Бумагу и чернила давно изъяли. Что же остается? Музыка? – Он ткнул пальцем вверх, разумея соборные куранты. – Так ведь это фальшивая музыка, граф!»
И вот теперь, в кабинете, перед Лорис-Меликовым лежало письмо Нечаева. Собственно, не письмо, а копия, сделанная смотрителем Алексеевского равелина со стены пятого каземата, на которой преступник время от времени нацарапывал кровью протесты и заявления.
Тяжелые, длинные летние дни я вынужден влачить по-прежнему в убийственной для тела и духа праздности, оставаясь без всяких занятий, так как письменные принадлежности были отобраны у меня генералом Мезенцовым еще в начале 1876 года, когда он приказал заковать меня в ручные и ножные кандалы. Хотя оковы и цепи по истечении двух лет и были с меня сняты, но бумаги и пера мне более уже не давали…
«Тяжелые, длинные летние дни…» «Кому же они легки?» – вздохнул Лорис и отложил все в сторону.
Отобедал он в семейном кругу, с женой и дочерьми. Потом соснул. Потом пил чай. Потом ординарец-майор обеспокоил его сиятельство новой почтой, требовавшей немедленного прочтения. Лорис уселся в кресло, покорно прикрыл глаза коричневыми набухшими веками и голосом обреченного потребовал «эти бумаги».
Министр иностранных дел просил ознакомиться с донесением консула Рубаницкого. «Что такое Ру-ба-ниц-кий?» – недовольно подумал граф, перелистывая глянцевитые плотные страницы, и, увидев консульскую подпись и слова «остров Сирое», с еще большим неудовольствием подумал: «Что такое остров Сирое?»
С какого-то Лорису неизвестного острова в Средиземном море какой-то неизвестный Лорису консул Рубаницкий доносил в Петербург:
Сюда прибыл из Гамбурга коммерческий пароход «Вулкан» под германским флагом, совершающий нерегулярные рейсы между Гамбургом и Сиросом, и на следующий день выгрузил возле здешнего лазарета 47 тонн динамита в ящиках. Агент названного парохода Антон Маврокордато получил приказание от своего грузителя «Dinamit aktiengesellschaft Alfred Nobel und K°» отправить означенный динамит при первой возможности в Таганрог на имя таганрогского купца Женгласа.
Агент Маврокордато заключил письменное условие с владельцем шхуны под греческим флагом, шкипером Антоном Кидоневсом из Андроса, относительно доставки 47 тонн динамита отсюда в Таганрог, с условием заплатить 100 наполеондоров фрахту.
Имея в виду, во-первых, то обстоятельство, что место отправления – Гамбург служил неоднократно важным пунктом преступной деятельности гнусных нигилистов, проживающих за границей, а во-вторых, что при выгрузке означенного динамита в Таганроге легко может оказаться не то именно количество, которое указано в коносаменте7, я счел долгом предупредить шкипера Кидоневса, что свидетельство о происхождении груза не может быть ему выдано без особого на сей случай распоряжения Императорского Правительства. К сему я долгом счел прибавить, что если он все же отправится с означенным, динамитом в Россию без такого свидетельства, то подвергнется строжайшей личной ответственности, тюремному заключению и конфискации груза и судна.
«Фу-у, – раздул щеки Лорис. – Прах тебя возьми, господин Рубаницкий, вместе с твоим островом».
Граф дернул сонетку звонка, позвал дежурного чиновника и устало продиктовал несколько распоряжений в связи с донесением консула.
День мерк.
Не пора ль закладывать коляску? На театре в Ораниенбауме дают нынче «Укрощение строптивой», играет Федотова. Как не поехать?
Глава 17 ДАЛЕКИЙ РЕЙС
Денис сидел на подоконнике. Подобрав ноги, курил трубку и, щурясь, озирал картинную бухту. Бухту оторачивал кипенный прибой, парусные суда казались приклеенными, большой двухтрубный «Вулкан» слабо дымил на рейде, и было видно, как над ним истаивает грязноватое облачко.
И бухта, и кипарисы на скалистом берегу, и приморская тишина, и блеск полуденного неба напоминали Черногорию, где Волошин воевал три года назад, напоминали и Ялту, куда он ездил в прошлом году узнавать про Клеточникова… Да, вот он – остров Сирое… Остров Сирое, о котором говорили они с Желябовым в Петербурге.
Недавно была твердая хмурь Гамбурга, пакгаузы, и фабричные трубы, и вывески мореходных компаний, и высокий шпиль кирхи св.Николая. Совсем еще недавно в Гамбурге старший помощник владельца фирмы Нумена вежливо слушал «русского негоцианта». «Негоциант» сносно изъяснялся по-немецки. Ему, видите ли, крайняя нужда попасть в Средиземное море, на Кикладские острова. Изволите ли знать, на юге России возникает железнодорожное строительство, и остров Сирое, видимо, обратится в важный транзитный пункт европейских поставок. Коллега, конечно, понимает, как важно заранее присмотреться к местным условиям. Он, господин Никитенков, слышал, что в Нижней гавани разводит пары «Вулкан», и вот покорнейшая просьба оказать содействие… «Мы охотно поможем вам, – ответили «негоцианту», – но «Вулкан» грузовое судно, без комфорта, к тому же груз несколько опасный – динамит». – «О, – улыбнулся русский, – пустяки. Мы в России ко всему привыкли».
Во время плавания Дениса не покидало ощущение свободы, какой-то телесной легкости, будто все его существо обновилось. Радовали Дениса и маячные огни Ла-манша, и бискайские волны, скалы Гибралтара. Какой простор! Господи, до чего хорошо жить, когда стоишь на корабельном баке, слушаешь боцманскую дудку, а вечерами тянешь с капитаном баварское пиво!..
Но вот позавчера «Вулкан» пришел в Сирое, и опять надо сжаться пружиной, таиться и ловчить, чтоб не попасть на глаза здешнему консулу и, пряча тревогу и неуверенность, поскорее приглядеть нужных людей.
Случай свел Волошина с папашей Янаки, старым контрабандистом и владельцем харчевни. Янаки расспросами не докучал. За соответствующую мзду старик поклялся раздобыть настоящего шкипера и теперь толковал в соседней комнате с тем самым Антоном Кидоневсом, которому консул Рубаницкий грозил тюрьмой, если шкипер осмелится без разрешения везти динамит в Таганрог.
Но папаша Янаки не о Таганроге помышлял.
А Денис сидел на подоконнике, подобрав ноги, курил трубку и щурился на солнечный блеск гавани, на тонкие мачты кораблей. Вон там справа, ближе к обрывистому мысу, вытравила якорный канат шхуна «Архангелос».
* * *
Консул Рубаницкий – министерству иностранных дел:
Динамит, адресованный таганрогскому купцу Женгласу, временно выгружен в нанятый для сего склад. При этом пароходный агент подал в таможню декларацию, в коей указано 1467 ящиков. Между тем из достоверного источника мною дознано, что в склад принято пятью ящиками менее, что лишний раз заставляет предполагать происки злоумышленной шайки нигилистов.
Крайне важно дальнейшее наблюдение за пароходом «Вулкан», каковой направляется в порто-франко8 Галац. По всей видимости, недостающие пять ящиков находятся на означенном германском судне и могут быть скрытно выгружены в непосредственной близости от границы Российской империи.
Шифрованная телеграмма российского посла в Константинополе действительного тайного советника Новикова:
«Вулкан» отправился сегодня к портам в устье Дуная. По сведениям, полученным от вице-консула в Дарданеллах г-на Юговича, тамошний карантинный доктор, побывавший на борту парохода, якобы слышал от капитана, что оставленный в Сиросе динамит может доставляться небольшими партиями в Россию для контрабандной торговли. Германский вице-консул г-н Росс и комендант Дарданелльского укрепления Дилавер-паша говорят, что существует вероятность провоза в Россию взрывчатых веществ с революционными злоумышленными целями.
Совершенно секретное донесение одесского генерал-губернатора генерал-адъютанту графу Лорис-Меликову:
Пропуск «Вулкана» в Черное море делает немыслимым дальнейшее наблюдение за грузом взрывчатых веществ. Несмотря на прибрежный надзор пограничной стражи, который притом не везде достаточен, не исключена возможность выгрузки в каком-либо месте.
* * *
Галац, большой порт на Дунае, принял в 1880 году три тысячи семьсот тринадцать торговых судов. Ни одно из них не было взыскано по дороге столь прилежным вниманием консулов, вице-консулов, послов и посланников, а равно и всяческого рода соглядатаев, как двутрубный гамбуржец под черно-бело-красным флагом. И по сей причине шхуна с залатанными парусами без задержки порхнула в Черное море, оставив за кормой пушки Дарданелл, минареты Константинополя, босфорские фелюги.
Доблестный папаша Янаки, магистр ордена контрабандистов, да пребудет с тобою благословение русских революционеров! Задача-то была не плевая. Ушлый консул шнырял вокруг да около, ибо отлично знал, что звон золотых монет околдовывает сильнее пения сирен, а кикладские контрабандисты объегорили бы и Одиссея.
Молодцы из свиты папаши Янаки чисто обтяпали дельце. «Вулкан» добросовестно сгрузил ящики фирмы «Альфред Нобель и К°». Но несколько пятипудовых ящиков очутились не на складе, что у госпиталя, а в скалах, рядом с тропкой, проторенной к морю в сердитом кустарнике.
Ай, на славу постарался папаша Янаки! Не только уговорил шкипера, нет, он еще и слушок пустил, что именно там, на «германце», скрыты недостающие ящики с динамитом, и весь городишко об этом толковал. И даже Рубаницкий, консул, тоже в это поверил. Внимание властей в Дарданеллах и Босфоре было поглощено осмотром «Вулкана», а шхуна контрабандистов безо всяких происшествий выбежала в Черное море.
Однако главная опасность впереди. Не помешает ли пограничная стража пристать западнее Одессы, у тех берегов, где прячется балка Санжийка? Встретят ли друзья? Словом, был ворох «если», короб «но».
Море катило июльские, грузные волны. Антон Кидоневс в вишневой жилетке, расшитой серебряным шнуром, ворочал штурвал. Время от времени грек тыкал пальцем на грот или кливер, и загорелые матросы в драных шароварах стремглав кидались к парусам…
* * *
Пахну́ло жареными каштанами, теплой пылью. Носильщик в дырявой войлочной шляпе назвал приезжего не «господином» и не «барином», а «мосье». Извозчики кричали: «А вот фаэтон!», «А вот фиакр!».
Заранее предвкушал Желябов, как у Софьи будут лучиться глаза, сиять и лучиться. Софья бывала на юге, в Севастополе и в Симферополе. Но что может сравниться с Одессой? Жаль, не пришлось из Питера ехать вместе. Впрочем, нынче среда, а Сонюшка явится в пятницу.
Андрей снял номер в маленькой гостинице «Сан-Суси». Во дворике сохло пестрое белье, курчавая толстуха в засаленном переднике ощипывала курицу, перья кружили слабой метелицей.
В кофейне Андрея дожидался Тригони.
Жалюзи были приспущены, пол недавно вымыт. Желябов и Тригони уединились в прохладной полутемной комнате, где были мраморный столик, стулья с плетеными сиденьями и непристойная картинка на стене. В комнате пахло молодым вином и грецкими орехами.
– Черт возьми, что это за воздух такой в благословенной Одессе? Ничего тебе не делается, ты все прежний! – весело говорил Желябов, улыбчиво всматриваясь в смуглое тонкое лицо Тригони. – Хорош и знатен наш Милорд. – Он засмеялся, вскинул бороду. – А? Ничего тебе не делается!
Желябов любил Михайлова, любил Кибальчича, Желябову нравился Волошин, Андрей жизнью бы пожертвовал ради братий своих, но нежность, ребячью доверчивость питал он только к Мише Тригони, к давнему, еще по керченской гимназии, другу-товарищу.
– Я-то что, – ответил Тригони с намекающей улыбкой, – а вот у тебя, брат, в очах!.. – Он погрозил пальцем. – «Юношей влюбленных узнаю по их глазам». Ну-ка! Так или не так?
Желябов смотрел в сторону:
– Видишь ли, Миша…
– Угадал! – рассмеялся Тригони. – Открывай карты, И не лепечи, пожалуйста: «словами не выразишь», «неземное». Ну, сударь, суд ждет!
– Вполне земное, Миша.
Тригони перестал улыбаться.
– Гм… У Стендаля где-то: «Прелесть любви в тайне двух». И потому – не надо, не говори.
– Не то, не то, – нетерпеливо возразил Андрей. – Мне, брат, хоть на весь свет крикнуть. Но как скажешь? Как это выразишь? Не умею! Она не из тех, кого определишь: «Умна и красива». Или там: «Очень мила». Нет, тут эдакое глупо, гиль и чепуха.
Андрей гладил холодный мрамор.
– Вот, говорят, я – мужик, обработанный культурой. – Он усмехнулся с неожиданной в нем застенчивостью. – Ей-богу, один так и сказал… Ну, не спорю. Обработанный так обработанный. А вот Соня… Соня – дворянка… Да душа-то у нее, друг мой, душа, говорю. Тут тебе не «мимолетное виденье», не «гений чистой красоты», тут русская женщина: безоглядно войдет в горящую избу. Хоть на край света. Нет, нет, ты не думай, не о том я, что она за мной именно пойдет. Не в том суть совсем. Понимаешь?
– Понимаю.
– Нет уж, – вдруг насупился Желябов. – Ладно, хватит, все равно не объяснишь.
– А все ж таки: «прелесть любви в тайне двух»? – грустно улыбнулся Тригони.
Они умолкли, каждый задумался о своем.
– Что? Что ты сказал?
– Я? Ничего. Вот сижу и жду, когда Андрей Иванович соизволят сделать распоряжения.
– Сделаю, брат. Но, может, сперва промочим горло?
Они выпили сухого вина, и Желябов стал рассказывать. Тригони легонько постукивал мундштуком о мраморный столик. Теперь ясно, зачем это питерцы просили его съездить в Санжийку, в небольшую укромную балку, на склонах которой немец-колонист разбил доходный фруктовый сад. Да, он был в Санжийке; немец живет ближе к Одессе, в экономии, а в саду, до сбора урожая, – один старик сторож.
Место, стало быть, для волошинского груза подходящее. Однако весь динамит – Желябов говорил «товар» – враз не отправишь в Питер. И потом, часть динамита, оказывается, пригодится в Одессе.
Тригони перестал постукивать мундштуком.
– Приедет Софья, узнаешь, – сказал Желябов и завел речь о катакомбах.
Действительно, коридоры, вырубленные под Одессой, с их тайными входами, неведомыми закоулками и тупиками, были очень уж хороши для того, чтобы схоронить «товар».
Тригони задумался. Лучшего, пожалуй, не сыщешь. Да уж больно много шныряет там отборной публики.
– Воры?
– Они. Совсем недавно полиция изловила шайку.
– Недавно? Где?
– Кажется, в Бирюковской. Знаешь? В той, что выходит на Пишоновку, в пустыри. Там их три разом, три катакомбы: Бирюковская, Боффо и Раннеса. И каменоломни брошенные, и бугры. Черт ногу сломит. Да вот, видишь, полиция недавно лазила.
– Вот и отлично, отлично, – быстро отвечал Желябов. – Недавно лазила, недавно изловила, так на кой ляд и мазурикам и фараонам теперь эта самая Бирюковская? На кой ляд теперь? Туда и отвезем. Только бы ты, Миш, наверняка узнал, в какой именно из трех-то полиция была. Это тебе – раз. А теперь второе: лошадей, подводы достать.
– Господи боже мой! – взмолился Тригони. – Да что я, биндюжникам друг, что ли?







