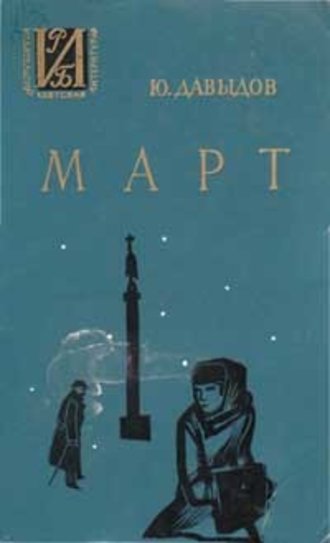
Юрий Давыдов
Март
– Ай-ай-ай, – заметил арестованный, – трубачиха, а подслушивала!
Мария Ивановна горделиво колыхнулась:
– А я ваши попреки, сударь, знать не желаю.
– Господин Поливанов, – рассердился прокурор, – прошу вас молчать. В противном случае мы удалим вас.
Свидетельница пустилась еще бойчее:
– Иногда оставался он, господа, до полудня. И всякий раз, заметьте, когда полы мыть. Все прочие жильцы уходили, а он никогда. Будто у меня не порядочный дом – украсть могут. А и украсть-то у них нечего, ежели и покусится прислуга. Даже вот потребуются ему папиросы, так он что же? Он, господа, чуть дверь приотворит, сунет Матрене деньги и опять щелк-щелк. Очень скрытный господин, пятый год сдаю комнаты, а таких не видела.
– Хорошо-с, Мария Ивановна, хорошо-с. А вот что: не получал ли ваш жилец письма, денежные повестки?
– Никогда и ничего, – замотала головой вдова трубача. – Да и откуда эдаким-то получать?!
Протокол был написан, подписан, вдова выплыла из комнаты.
На другой день арестованного «предъявили» бомбардиру, присланному из Кронштадта.
Бомбардир оказался малым лет двадцати четырех, наглым, гладким, из тех ухарей, что разбивают сердца кухарок и горничных.
На вопросы ответствовал он, стоя во фрунт, бойко, с оттеночком денщицкой фамильярности, которая как бы намекала: «Я, господа, хоть и нижний чин, однако на плечах не кочан капусты имею-с».
– Барина своего, ваше выскобродь, как сейчас вижу. А вот в них, в этом вот господине, никак не могу признать Константина Николаевича. Барин мой с лица совсем другие, они такие черненькие, а господин – нет. И глаз, ваше высокородь, у барина темный. Что-с? Слушаюсь, ваше сокородь, сейчас доложу-с. Служил я, значит, денщиком больше года, как барин прибыли из действующей за Дунаем армии. Службу проходили мы в третьей батарее сводно-артиллерийской бригады, ныне расформированной. Летось барин запросился в отставку. Уйду, говорит, на покой да и обженюсь на Москве. Невеста у них там была, дочь купца Борисовского. Батюшка ихний сказывал, свадьба…
– Постой-ка, брат, – перебил прокурор. – Батюшка сказывал? Ты его знаешь?
– А как же, ваше сокородь? Как же! – вроде бы даже приобиделся бомбардир. – Знаем-с. Коллежский асессор Николай Александрович, проживание здесь имеют, в Питере. Вот опосля, ваше высокородь, как, значит, отпустите, так я к ним и наведаюсь.
– Где же он живет?
Бомбардир сказал адрес. Никольский записал и улыбнулся.
– А барин твой где ныне? – продолжал прокурор.
– Ну, как они вышли в отставку, с той поры и не видел-с. Однако они не забывают. Вот к пасхе письмо получил, а в письме – красненькую. Теперича, к рождеству-то, тоже, думаю, будет.
– А письмо не сохранил ли, братец? – Никольский поигрывал пенсне.
– Известно, сохранил, не обертка от табаку. Я, ваше сокородь, еще ехамши из Кракова…
– Откуда? – удивился Добржинский.
– «Краков» в здешнем просторечии – «Кронштадт», – объяснил подполковник с иронией в голосе.
Иронию эту мнительный Добржинский принял на свой счет и прихмурился: Добржинского лишь нынешним летом, после дела Гольденберга, перевели из Одессы в столицу, он еще не познал все «петербургские обстоятельства», но очень злился, подозревая, что его считают провинциалом.
– Что же ты «ехамши из Кракова»? – улыбался Никольский.
– Подумал, ваше сокородь, может, интерес поимеете. Так я его, письмо-то, и привез про всякий, стало быть, случай.
– А! Умница, умница, – похвалил Добржинский. – Давай!
– Рад стараться. Извольте. – Бомбардир сунул руку за борт зеленого мундира и вытащил конверт, завернутый в вощеную бумагу.
Казалось бы, все изобличало арестованного – он отнюдь не «отставной поручик» и отнюдь не «господин Поливанов», но когда бомбардир, сделав «налево кругом», промаршировал за дверь, арестованный равнодушно сказал:
– Этого молодца я видел впервые. У меня, господа, казенным денщиком другой солдат служил. Запамятовал, право, как его звали. А тоже, знаете ли, этакая вот рожа.
– Ну, – возмутился прокурор, – ни в какие ворота!
Никольский повертел пенсне, холодно спросил:
– Надеюсь, уж батюшку-то своего вы не забыли?
– О нет, разумеется. Только ведь не этого… как его бишь? Коллежский асессор, что ли? Я не тот Поливанов, о котором только что шла речь, и отец мой не коллежский асессор, проживающий в Петербурге.
– Послушайте, послушайте… – Добржинский шариком прокатился по комнате. – Все равно игра не стоит свеч.
* * *
Игре действительно приходил конец. И «отставной поручик» понял это, столкнувшись в тюремном коридоре с другим арестантом.
Он сразу узнал Дриго, хотя в последний раз виделся с ним полтора года назад, летом семьдесят девятого.
Встреча в тюремном коридоре не была случайной: «Поливанов» догадался – жандармы устроили негласную очную ставку. Всего лишь минуту всматривались они друг в друга в сумеречном коридоре, и на тупом, лупоглазом лице Дриго перемежались удивление, испуг, злорадство.
В камере именующий себя Поливановым вспомнил черниговские тополя, почтовую станцию, выбеленную мелом, старинные пушки, дремавшие на высоком валу, и светлую Десну, и медвяный запах заречных лугов.
Милый, добрый Лизогуб… Черниговский помещик, богач, бросил «ликующих, праздно болтающих», решил продать имения, а вырученными деньгами – огромной суммой – пополнить кассу революционеров. Лизогуб не успел осуществить свое намерение: его арестовали. Из тюрьмы Дмитрий Андреевич послал доверенность управляющему: имущество распродать, деньги вручить определенному лицу. Управляющим был Дриго, определенным лицом – ныне именующий себя Поливановым… Дриго повел дела вяло, клонил потихоньку к тому, чтобы прикарманить деньги бывшего хозяина или хотя бы поделить их с его старшим братом.
В Чернигов к Дриго «отставной поручик» наведывался не однажды: и в тот страшный майский день, когда в Киеве цвели каштаны, а военный оркестр играл «Камаринскую», и потом, два месяца спустя, после Липецкого и Воронежского съездов.
Он держался начеку, и Дриго не удалось приманить его ночью на почтовую станцию, где уже дожидались жандармы. Луна в ту ночь была на редкость яркой, тополя недвижные. В тишине позвякивали удилами нерасседланные полицейские кони. Брякали сабли о чугунные плиты станционного крыльца… А он притаился неподалеку. Потом ушел тенью. Добрался до постоялого двора, и в ту ночь – «прозрачно небо, звезды блещут» – извозчик, рыжий еврей Мотька, гнал лошадей за семьдесят верст, к железной дороге.
Вот когда виделись они в последний раз с лупоглазым. Мерзавца все ж таки посадили за решетку, но вовсе не из-за лизогубовских имений: жандармы держали Дриго для опознания революционеров, встречавшихся с Лизогубом.
Конечно, Дриго откроет им «отставного поручика». И тогда Никольский с Добржинским обратятся к показаниям Гольденберга. Эх, Гришка, несчастный ты человек, многим навредил…
* * *
– Здравствуйте, Александр Дмитриевич! – сказал Никольский.
– Добрый день, Александр Дмитриевич! – сказал Добржинский.
Арестованный, именующий себя Поливановым, коротко поклонился.
– Маленькое заявление, господа.
– Пожалуйста. – Никольский ровным, уверенно департаментским движением положил лист бумаги, провел по нему кончиками пальцев. – Прошу.
Арестованный сел и написал размашисто:
Мое настоящее имя в настоящее время я называть не желаю.
Мотивы, руководящие мною в этом случае, – нежелание беспокоить и огорчать родных и любимых людей. Хотя я и не то лицо, которым я себя назвал, но при означении меня прошу именовать по-прежнему, то есть Константином Поливановым, дворянином Московской губернии. Указ об отставке, по которому я жил, получил в начале настоящего года от лица, назвать которое не желаю. Как составлен этот указ, настоящий он или фальшивый, мне неизвестно.
– Только и всего? – иронически скривился Добржинский.
– Ну что ж, – развел руками Никольский, – каждому овощу свое время.
… Уже смеркалось. На дворе были редкие огни, гнетущий, загадочный мрак. Никольский с Добржинским ехали в карете.
– Не чудится ли вам порою, Андрей Игнатьевич, – говорил прокурор, – что все мы вот в такой же тьме, как нынче на улице? Вдруг раздаются взрывы, один, другой, озаряют на мгновение ужасную картину, а потом все опять погружается в неведомое.
– Да вы положительно поэт, Антон Францевич, – улыбнулся Никольский.
– Э, полноте… – Добржинский помолчал. – Скажите, Андрей Игнатьевич, вы наслышаны о некоторых проектах графа Михаила Тариэловича?
Никольский затянулся папироской, его остренький бритый подбородок порозовел.
– Кое-что слыхал.
– А я откровенно скажу: вполне сочувствую его замыслам. Совещательный орган при государе из людей непетербургского склада. Разумеется, только совещательный. И людей, безусловно преданных престолу. Но все это мое личное мнение, конечно. А вот другое… Скажите, как по-вашему, полезно было бы распространение в публике толков о конституционных мерах или нет?
Никольский ответил вдумчиво, тихо:
– Неужели вам не ясно, что все это будет расценено как уступка революционерам? Какое правительство, если только оно уважает себя, решится на это?
– Увы, такое опасение владеет многими. К великому сожалению. Да-с! А между тем распространение толков о конституции, обещанной государем, лишило бы фанатиков моральной поддержки и сочувствия публики. И, главное, внесло бы разлад в преступное сообщество.
– Гм… Однако согласитесь, Антон Францевич, надежда на моральные принципы злонамеренной шайки не стоит выеденного яйца.
– Не будем спорить, Андрей Игнатьевич. Не будем спорить о наличии у них морали. И все-таки, сдается, распространение подобных толков заслуживает внимания государственной полиции.
Никольский задумался.
– Внимание государственной полиции, – начал он с некоторой неохотой, – должно, конечно, обнимать все сферы жизни. И в этом смысле… э-э-э… то, что вы говорите о конституционных чаяниях, послужит в известной степени тормозом для террористов. Я бы даже сказал, приведет к иллюзии какого-то потепления, что ли. – Он постучал галошей о галошу, ноги у него зябли. – Что ж до меня, лично до меня, то я за хороший, крепкий морозец в политическом климате. Знаете, эдакий наш, исконно русский, без дураков-с. – Он усмехнулся. – «В Россию надо только верить»… Держава больна! Больна страшной болезнью, а для страшных болезней нужны страшные лекарства. Каленым железом прижигают язвы, и террористов следует укротить, как укрощают хищников. Никаких полумер. Да чего там далеко ходить? Возьмите хоть нашего с вами нынешнего…
– О, я понимаю, понимаю. Из показаний Гольденберга… – На сей раз он кстати вспомнил Гольденберга. – Из его показаний видно, что этот – дикий фанатик и за плечами у него груз ой-ой.
Дриго опознал «поручика», и распоряжением Лорис-Меликова уже было послано за его родителями. Добржинский, улыбаясь, предположил, что свидание «сыночка, папеньки и маменьки будет, очевидно, весьма трогательным».
– Трогательным? – переспросил Никольский. – А я бы к этому никогда не прибег, Антон Францыч. – Он ударил на «цыч». – Никогда! Слишком жестоко подвергать такому испытанию людей уже далеко не молодых. Я имею в виду родителей.
«Ну и ну, – подумал Добржинский, – экий, однако, фарисей». Ему стало досадно: он, служитель правосудия, выказал себя чуть ли не инквизитором, а этот жандарм – почти гуманистом.
– Ах, Андрей Игнатьевич, Андрей Игнатьевич, я и не предполагал, сколько доброты в вашем сердце. Но, положа руку на это доброе сердце, вы не можете отрицать, что сами настояли на вызове бедных стариков. А?
Подполковник полез за новой папиросой.
– Ведь вам, как я понимаю, что нужно? – прилип Добржинский. – Вам нужно, чтоб имя Дриго, негласного осведомителя, не вышло из стен департамента. Ась? Не так ли, Андрей Игнатьевич? Чтоб верный Дриго не был назван в судебном заседании? Так ведь?
– Вы очень тонко понимаете наши заботы, Антон Францыч, – сухо и, как услышал прокурор, надменно отозвался жандармский подполковник.
Карета остановилась. Подъезд министерства внутренних дел освещала четверка газовых фонарей.
* * *
Помнилось все. Не потому, что было недавно, и не потому, что было давно: есть такое – запоминается навсегда.
Каурая кобыла в белых чулках. Из сиденья таратайки выпирала пружина. Отец стоял, повесив голову, а мама плакала навзрыд, прижимая ладони к щекам.
На дворе было чисто и холодно и пахло гречей. У соседей петухи уже отпели, как вдруг заголосил еще один и, точно бы оправдываясь, догоняя, голосил одержимо, хлопал крыльями. «Саша… – сказал отец, – Сашка ты мой…» На морщинистой шее запрыгал кадык. А он твердил как заведенный: «Вот и еду…» Слез не было, ни единой слезинки. Только все будто каменное: руки, ноги, голова, грудь. И хотелось поскорее уехать.
Двадцать верст до станции. Обрыв над Сеймом, далеко видны степи… Двадцать верст до станции. Рожь уже убрали. Воздух был тонок, прозрачен, а он ехал как в тумане, сглатывая слезы… Простая у них семья, семья захудалых дворян: отец – на жалованье землемера и вечно в отлучке, мать – за шитьем, по хозяйству. Сестры, брат… Простая семья, а дала ему главное: к людям любовь, ибо для матери с отцом все были люди, все человеки. Когда повзрослел, воли своей родительской они не навязывали: «Ступай, Сашенька, как сердце велит. Только не потеряй, спаси бог, самоуважения, будешь тогда хорошим и сильным». Не потеряй самоуважения… Он обрел гармонию совести и дела, а только она, эта гармония, дает настоящее счастье. Жизнь доставила ему столько светлых чувств, столько братских привязанностей, что, каково бы ни было будущее, не ему, право, роптать на судьбу… Одно горько: что сделал для них, дорогих и постоянно любимых? Ничего не сделал. Но сказано: «Оставь отца, и матерь твою, и ближних твоих и иди, куда мы зовем…» Дом, родные путивльские края. Один только день был дома, мучительно-счастливый день. И вот нынче, здесь, в этой тюрьме, спустя три с лишним года довелось взглянуть на маму, на отца.
Господа жандармы расстарались: на казенные деньги доставили стариков в Санкт-Петербург, на извозчике подвезли к тюремным воротам. И мама вошла в комнату с высоким зарешеченным окном и портретом молодого императора на стене. «Да, это мой… мой старшенький», – едва молвила она, протянула руки к нему, и глаза ее наполнились слезами, которые никак не могли пролиться. Отец опирался на палку, голова у него дрожала. Но ответил он твердо: «Да, это мой сын. Мой Александр…»
* * *
Собор был пуст.
Старик и старуха молились в Петропавловском соборе.
«Спаситель, тебя распяли за любовь твою к людям. Спаситель, не дай погубить нашего мальчика, он тоже любил людей…»
Они молились в Петропавловском соборе, посреди той крепости, где в одиночном каземате умрет их старшенький.
На шпиле в декабрьских сумерках мерцал позолотой архангел с молчаливой трубою.
Когда вострубят о распятых мальчиках?
Глава 19 ОТЧЕТ РУССКОМУ НАРОДУ
После свидания с родителями называющий себя Поливановым два дня отказывался от допросов. Он не желал видеть ни подполковника, ни прокурора. Он не выходил на прогулку и почти не притрагивался к пище.
На третий день он потребовал бумаги и чернил.
– Кажется, мы одумались? – заботливо осведомился Никольский. И прибавил, не дожидаясь ответа: – Дальнейшее запирательство нелепо.
Называющий себя Поливановым смотрел мимо него.
– Прекрасно, – сказал подполковник. – Надеюсь на вашу полную откровенность.
Заключенному принесли стопку бумаги, перо, чернила.
…«Моя деятельность, предмет настоящего дела, есть деятельность общественная, она воплощалась среди общества, для общества и посредством его. Как общественный деятель, я пользуюсь ныне представившимся случаем дать отчет русскому обществу и народу в тех моих поступках, ими руководивших мотивах и соображениях, которые вошли составною частью в события последних лет, имевших серьезное влияние на русскую жизнь. Я не буду касаться личностей, в смысле фамилий и данных, ведущих к их обнаружению, раскрытию и привлечению к настоящему делу; я не имею на это ни малейшего права; но характеры известных мне деятелей, сошедших уже с поприща своей работы, и мотивы, руководившие ими, я, поскольку буду в состоянии, очерчу, если, конечно, у меня не будет отнята к этому возможность со стороны ведущих настоящее дело.
Я по убеждениям и деятельности принадлежу к Русской Социально-Революционной партии, выражаясь точнее – к партии «Народной воли», исповедую ее программу, работал для осуществления ее цели. Вообще к революционному русскому движению я примкнул в начале 1876 года.
Скажу несколько слов о своей жизни, предшествовавшей моменту сближения с Социально-Революционной партией.
Со второго класса до восьмого включительно я воспитывался в новгород-северской гимназии Черниговской губернии. В первых четырех классах я учился довольно вяло. Зубристика не представляла для меня ничего интересного, предметы, как, например, естественная история, читались такими бездарностями, что превращались тоже в ничто. Но были короткие периоды времени, при часто менявшихся преподавателях, когда новый учитель знанием и умением оживлял предмет, и помню, какое тогда наслаждение доставляли его уроки. Заинтересованный, я читал обыкновенно по этому предмету, кроме учебников, другие книги и таким образом приобретал значительные знания. Но такой учитель обыкновенно скоро оставлял гимназию. И опять мертвая школа нагоняла скуку и тоску по родной семье. С четвертого класса я начал читать книги сначала по беллетристике; прочел Тургенева, Толстого, Гоголя, Лермонтова, Пушкина, и это чтение внесло в нравственный мир недостающую школе жизненную струю, возбудило новые мысли, открыло новые горизонты. При врожденной впечатлительности это быстро двинуло мое развитие. Математика, география, история, физика в старших классах стали даваться чрезвычайно легко, и я посвящал им только часть времени; другую же часть отдавал чтению уже более серьезных книг.
В это время, приблизительно в 1873 году, мое отношение к школе и ее предметам определилось окончательно. Школа с ее классической системой для ищущего разумного элементарного образования дает чрезвычайно недостаточно. Сознающему это необходимо самому дополнять пробелы усиленными занятиями. Только при таких занятиях выходящий в жизнь молодой человек будет в состоянии выбрать путь дальнейшего развития и образования, уже специального, создающего законченного человека, гражданина…
С некоторыми из своих товарищей мы образовали собственную библиотеку из лучших книг по всем отделам науки. Много труда стоило это. Мы почти все были люди бедные, получающие от своих родителей ровно столько, чтобы заплатить за стол и квартиру, за право учения в гимназии. Но, несмотря на это, разными способами: уроками, сбережениями из урезанного содержания и др. – добыли кое-какие деньги, собрали имеющиеся у знакомых книги и таким образом образовали домашнюю библиотеку томов в 150.
Уже в то время меня интересовало экономическое и политическое положение народа, его мировоззрение. Я уже тогда слышал через десятые руки, смутно, о движении в народ с целью пропаганды, да и собственное убеждение останавливало серьезное внимание на массе человеческих существ, наполняющей русскую землю, а между тем не играющей никакой роли ни своими интересами, ни своей личностью в общественной жизни. Все эти обстоятельства и соображения не определяли, однако, моей жизни и планов строго и точно; ближайшие задачи все-таки были – окончание гимназии и выбор специального высшего учебного заведения.
В июле 75 года я имел свидетельство об окончании гимназии и провел лето дома, в городе Путивле, приготовляясь в августе ехать в С.-Петербург.
Много светлых надежд и ожиданий было связано с этой поездкой. Мне было 20 лет. Высокие задачи общественной деятельности, желание подготовить себя к ним, высшее учебное заведение и богатые научные средства в столице с ее библиотеками, дающими возможность свободной научной работы, наконец, цвет русской интеллигенции, с которой столкнешься уж во всяком случае в лице профессоров, – вот то привлекательное будущее, которое должно изгладить неприятное воспоминание о гимназии, о мертвой системе, сковывавшей детские и юношеские порывы любознательности.
Первою заботою моей по приезде, конечно, был Технологический институт, справка об условиях вступления, подача прошения и пр., потом поверочный экзамен при 400 желающих поступить и 140 вакансиях на первый курс, конкуренция, победа и, наконец, поступление в это святилище, куда так трудно попасть жаждущему высшего образования. При поступлении нам было объявлено о введении с первого курса обязательных репетиций, но, что это такое, мы тогда еще не представляли себе ясно. Нововведение это, оказалось, состояло вот в чем. Всякий слушатель обязан бывать ежедневно на лекциях. Несколько раз в день надзиратели проверяют принадлежащую каждому вешалку и по отсутствию одежды отмечают не бывших на лекциях. Через день по два часа назначены репетиции из различных предметов, в продолжении которых профессор спрашивает слушателей из пройденного и ставит отметки, оценивающие ответы. Не бывшим на репетиции слушателям ставится нуль. Такие порядки удивили и опечалили почти всех. Выходило не лучше, а гораздо хуже гимназии… Я чувствовал, что мои надежды и ожидания не сбылись, что здесь я не найду искомого. Предметы чистой и прикладной математики не удовлетворяли возбужденных вопросов, а между тем поглощали почти все время и силы. Мало, даже почти никакой надежды не было на изменение положения института к лучшему.
Итак, стены Технологического института были для меня тесны. Это я ясно сознавал и чувствовал. Зачем мне были предметы института, когда он сам не признавал во мне человека и считал насилие и принуждение лучшим средством высшего образования? За занятиями в Технологическом институте при таких условиях я не мог признавать нравственного значения, а самые предметы высшей математики мог изучать вне стен института, если б к тому представилась надобность. О куске же хлеба и карьере, как главной руководящей в жизни, я не думал. Жизнь и люди в Петербурге легко заменили мне то высшее учебное заведение, о котором я мечтал. Литература, как цензурная, так и заграничная, запрещенная, общение с людьми разных понятий и убеждений, от самых широкообщественных до узкочиновничьих, собственная мысль и критика всего происходящего пред глазами дали мне возможность ориентироваться в новом положении и сделать вывод. Постепенно приближаясь, я пришел наконец к следующему заключению: решение задачи о цели человеческой жизни нужно искать в жизни же. До решения этого главного вопроса карьеру и специальность избирать невозможно. Кроме всего этого, стало ясно для меня, что положение русского народа и общества крайне печально. Общество бесправно и пассивно. Гражданственность заменена в нем чиновничеством, и узкие, личные интересы получили широкое право. Стремления общественного характера подавляются, а люди, руководимые свободной идеей, преследуются. В то время появилась в обращении рукописная брошюра под заглавием: «Экспедиция шефа жандармов». Она давала отчет о преследованиях правительством социалистической деятельности в 37 губерниях. 700 с лишним человек было привлечено к ответственности, и большая часть их содержалась в тюрьмах. Это было неопровержимым доказательством ненормального политического положения русского общества. О народе я тоже имел неутешительные сведения, констатируемые литературой и моим личным наблюдением в деревне. При таком взгляде на действительность пребывание в институте потеряло всякое значение; я оставался в нем, но манкировал9 занятиями.
Вообще недовольных положением было среди студенчества много. Между ними существовало широкое общение и обмен мыслями. В этой сфере мы находили пищу нашим духовным потребностям. Здесь скоро сложились некоторые попытки к общественной деятельности. Мы затеяли организовать кружок. На сходках поднимались вопросы как теоретического, так и практического характера. Говорили о социалистических теориях, о двух существовавших тогда направлениях – пропагандистов, или лавристов, и бунтарей, о запрещенной литературе и журнале «Вперед», о положении народа и успехах деятельности среди него. Но все мы были еще тогда недостаточно знакомы с этими вопросами и потому к окончательным выводам не приходили. Наши беседы имели характер обмена мыслей и мнений, и под влиянием этою во многих из нас зрела решимость более цельно отдаться делу просвещения народа.
Кружок и его задачи поглотили все мое внимание, а между тем в институте на первом курсе между слушателями увеличивалось число чувствующих тягость подневольного учения. Недовольство породило брожение в умах; это, в свою очередь, сплотило недовольных, то есть почти весь курс, и в середине ноября на сходках первый курс порешил отказаться от репетиций и других стеснений и заявил об этом директору. Директор грубо принял это заявление и предал институтскому суду весь курс. На другой день была объявлена резолюция – исключение всех слушателей курса, то есть закрытие курса. Желающие вновь поступить должны были подавать прошения. Цель такого решения ясна. Изъявляющий покорность самим этим поступком отказывался от своего протеста, чувствовал себя подавленным и этим самым давал залог будущей выносливости. Курс решил всем подать прошение. Но нужно ли было подавать мне? Я в организации движения не принимал деятельного участия, но сочувствовал ему, как всякому протесту против гнета и стеснения личности. Но принять участие в самооплевывании я не мог да и вообще институтом не дорожил. Я, конечно, прошения не подал и остался вне института, думая все-таки жить в С.-Петербурге. Однако вышло несколько иначе. По высшим административным соображениям было решено выслать на родину всех непринятых обратно. Меня потребовали в секретное отделение градоначальника, где я застал уже несколько человек однокурсников, находящихся в одном со мною положении. Колышкин, бывший тогда начальником секретного отделения, объявил нам о предстоящей высылке и на наши заявления о необходимости иметь несколько дней, чтобы покончить свои дела и собраться, резко ответил: «Уедете в 24 часа на казенный счет, и никаких разговоров». Разговоры действительно кончились, но тяжелое впечатление произвело это первое личное наше столкновение с властью, без разговоров и объяснений бросающей два десятка молодых людей, полных лучших порывов и стремлений, в глушь провинции, обрекая их на скуку и безделье, а иных и на лишения.
Вышло так, что мы уехали даже не в 24 часа, а всего в 8 часов, в тот же самый день, как последовало объявление о высылке. Почти ничего не захвативши из вещей, мы в сопровождении городовых мчались домой. Ничего не было удивительного в нашем изгнании из столицы; а между тем это насилие над свободой человека произвело тяжелое, глубокое впечатление. Я анализировал свои впечатления, желая представить хоть приблизительно все то, что испытывают гонимые за убеждения, за реформатские стремления, всю ту сумму горя, слез и страданий, какая выпадает на долю тех десятков тысяч русского народа, которые ежегодно проходят по Владимирке. Перенесенное мною во время высылки дало возможность живо представить и даже отчасти почувствовать эту безобразную сторону существующего государственного порядка. За этот урок я был благодарен и доволен в этом отношении высылкой. Жизнь впервые дала мне указание на цель, какую можно было бы поставить в жизни.
Побывав с визитом у курского губернатора, я, наконец утомленный и несколько расстроенный, очутился в родном захолустье, в г.Путивле. Не говорю о неприятной встрече с родными и знакомыми: одним это понятно, а другими это испытано. После петербургской жизни, полной мысли и труда, бессодержательность провинции мучила меня. Даже порядочных книг, товарищей уединения, негде было взять. Даже семьи, друга в жизненных печалях, не было вокруг меня. Отец по должности разъезжал по деревням, а мать с сестрами и братом жили в Киеве. Положение было невыносимое, и в декабре 1875 года я уехал в Киев к матери.
Здесь жизнь совершенно переменилась. Скоро нашел своих знакомых студентов, а через них и тех людей, которые меня интересовали все более и более по глубине и искренности своих взглядов. В продолжение моего пребывания в Киеве, то есть четырех-пяти месяцев, я познакомился с миром киевских радикалов. Это было первое знакомство мое с определившимися и действующими социалистами.
В начале апреля новые знакомые предложили мне принять участие в предположенной на второй или третий день пасхи большой сходке рабочих. Местом собрания был назначен безбрежно разлившийся в то время дедушка Днепр.
В определенное время с различных мест отчалило около десятка лодок с тем, чтобы, поднявшись немного вверх по разливу, собраться у одного из островков. Нас, несколько человек, пробралось по грязи затопленного Подола огородами и разнесенными дворами к рыбачьей лодке и на ней поплыло к месту назначения. Через несколько часов все были в сборе.
На песчаном островке, только что показавшемся из воды, группировалось человек 60. Десятка полтора было интеллигенции, остальные рабочие различных ремесел, фабрик и заводов. Было даже несколько хозяев-мастеровых и торговцев. Был как представитель рабочего движения, социал-демократ, немец-рабочий, недавно приехавший в Россию и, хотя не знающий русского языка, заинтересованный предметом сходки. Он по одежде резко выдавался из толпы. На нем была довольно чистая черная пара и цилиндр.
Собрание было открыто чтением тогда недавно вышедшей книжки, под заглавием: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». В ней доказывалось, что новый, послереформенный экономический быт народа тяжелее дореформенного. «Прежде били дубьем, а теперь рублем». Внимание слушателей было поглощено чтением. По окончании для большого уяснения читавший развил те же мысли словами, а затем стали говорить желающие. С этого момента направление сходки неожиданно и резко определилось.
Несколько человек рабочих стали доказывать, что им «не дают дела, а что книжки, хотя они и хороши и верно описывают положение вещей, но не указывают подробно, что должен делать каждый рабочий: я, ты, другой, третий. Книжками одними еще много не сделаешь, а как и с кем бороться, нужно выяснить да и начинать, а там, как узнают, за что война загорелась, пристанут и другие. А то вот два года книжки ты нам читаешь, а дела не видно». При этих прочувствованных словах вскочил один мощный рабочий, лет сорока, и возбужденно вскричал: «Да что ж мы, братцы, что ж нам разговаривать этак без конца! Если мы недовольны – их разносить надо! Пойдем разобьем жандармское правление, а там посмотрим, что будет!» Поднялся говор и шум. Все встали. Читавший, видя невозможность вести беседу в том духе, в каком начал, не стал продолжать, так как здесь вместе с надежными рабочими были и новички. До конца разговоры велись уже по группам.







