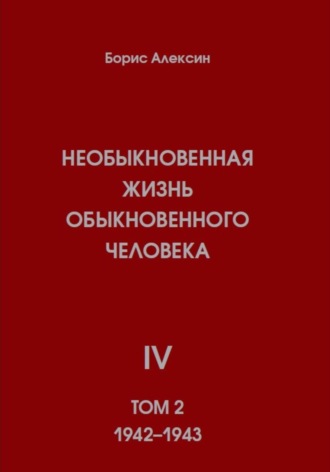
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 2
К Джеку все привыкли и считали его как бы необходимой принадлежностью батальона. Единственным, кто его почему-то невзлюбил с самого начала, был новый комбат Фёдоровский. Впрочем, Джек отвечал ему взаимностью. Во всяком случае, Венза говорил, что он всегда знает, когда командир батальона проходит мимо их избушки: Джек сейчас же поднимает голову и тихо ворчит.
При появлении в медсанбате Алёшкина Джек преображался: он вскакивал со своей подстилки, начинал бегать по комнате, пытался выглянуть в окно, как-то по-особенному повизгивал и рвался к двери, умоляюще поглядывая на Вензу. Причём это происходило, как только машина начсандива появлялась на территории батальона. Каким образом Джек узнавал, что приехал Борис Яковлевич, Венза просто не понимал и не один раз говорил об этом со своим начальником.
Вырвавшись из комнаты, пёс, сломя голову, не обращая внимания на окружающих, а иногда сталкивая мощным телом попадавших на его пути, мчался к своему хозяину. Все знали, что только начсандива Джек признавал единственным и полновластным властелином.
Примчавшись к Борису, Джек бросался к нему на грудь, радостно и восторженно взвизгивал и даже иногда лаял (вообще-то, лаял он очень редко). Пёс вертелся волчком, пытался лизнуть хозяина в лицо, прижимался к его ногам головой и телом, и всем своим видом выказывал самый необузданный восторг и радость.
Но стоило Алёшкину только слегка нахмурить брови и построже взглянуть на Джека, даже не произнося ни слова, как тот немедленно стихал, робко прижимался к правой ноге Бориса, опускал голову и, не отставая ни на шаг, тихо следовал рядом с ним.
Только своему хозяину Джек позволял делать с собой всё, что тот захочет. Как маленький щенок, он ложился на спину, подставляя рукам Бориса самую беззащитную часть своего тела – живот, и ласково урчал, когда тот его почёсывал.
Алёшкин постепенно выяснил, что Джек прекрасно понимает его голос и не только интонацию, но и слова. Если, положив перед мордой собаки самый соблазнительный кусок колбасы, сахар или что-нибудь ещё, Борис говорил ему: «Трогать нельзя!», лакомство могло пролежать рядом несколько часов, и он делал вид, что его не замечает. Очень хорошо Джек понимал команды «пойдём», «иди», «стой», «ложись», «сиди», «нельзя», «возьми», «ко мне», «на место» и многие другие.
В недолгие часы отдыха Алёшкин находил в Джеке хорошего друга. Если Борис работал за столом, что-либо писал или читал, верный пёс мог часами сидеть неподвижно рядом, следя за хозяином глазами и ничем не выдавая своего присутствия.
Когда начсандив вынужден был переехать на житьё в штаб дивизии, взять с собой Джека он не мог и оставил его на попечении Игнатьича, который тоже полюбил собаку и хорошо о ней заботился.
После отъезда Бориса и Вензы Фёдоровский переселился в их комнату, а Игнатьичу приказал занять для своего жилья маленькую каморку – ранее пустовавший чулан.
Естественно, Джек жил там же, где и Игнатьич. Каморка эта не запиралась, но войти в неё, когда там находилась собака, не мог никто. Стоило кому-нибудь только открыть дверь, как на пороге появлялся Джек с таким грозным ворчанием и свирепым видом, что посетитель отскакивал в сторону и произносил не слишком лестные слова, как по отношению к собаке, так и по отношению к Игнатьичу.
Несколько раз на Джека нарывался и комбат. Он даже приказал убрать Джека из каморки и посадить на цепь у крыльца. К счастью, в этот же вечер в медсанбат приехал Алёшкин и отменил этот приказ, пообещав Фёдоровскому, что в самом ближайшем будущем заберёт собаку к себе.
Игнатьич рассказывал Борису Яковлевичу, что Джек так никого в санбате и не признал за человека, достойного своей собачьей дружбы.
– Но однажды, – добавил он, – я, по своему обыкновению, задержался около кухни. Вы ведь знаете, у меня там один из поваров – хороший дружок, вот я и засиделся.
После ужина, свернув огромные махорочные цигарки, эти друзья по нескольку часов могли сидеть на каком-нибудь толстом полене, разговаривая о самых разных делах, главным образом об ушедших в прошлое мирных буднях, о судьбе своих семей, оставшихся на территории, занятой теперь немцами (семья Игнатьича жила в селении Батетском, а его приятеля – где-то под Гатчиной). Время за этими беседами текло незаметно. Так было и в этот вечер. Батальон находился уже на новом месте, около хлебозавода. Игнатьич приспособил для себя и Джека маленькую землянку, шагах в пятнадцати от палатки комбата.
Когда Игнатьич возвращался домой с кухни, заметив, что дверь в землянку слегка приоткрыта, он удивился. «Неужели, – подумал он, – Джеку понадобилось выйти, и он открыл дверь изнутри? Как же он щеколду-то открыл? А ну как Джек куда-нибудь сбежал?» Испугавшись, Игнатьич быстро зашёл в свою землянку. Картина, которую он увидел, поразила его. Уходя, он оставил зажжённой маленькую коптилку, стоявшую на крошечном столике рядом с топчаном. Что он увидел, передаём с его слов, как он рассказал потом Алёшкину:
– Значит, дело было так, Борис Яковлевич. Вижу, дверь приоткрыта, ну, думаю, Джек не стерпел, сбежал, хотя это на него и не похоже. А потом, как он мог это сделать? Захожу. Коптилка-то чуть светит, видно плохо, но всё же вижу. На подстилке (я на пол землянки досок настлал, а на них подстилку из старого одеяла положил, это у печурки), в ногах у меня, лежит Джек, который сразу голову поднял и слегка хвостом начал постукивать, а у него под самой мордой кто-то, завернувшись в шинель, скорчившись, лежит, да такой маленький, словно ребёнок. У меня так всё и обмерло внутри! Думаю, неужто Джек кого придушил? Да не может быть, ведь он же не такой свирепый. Не выдержал, крикнул: «Джек, ты что же это наделал?!» Тот даже не шелохнулся, только продолжал на меня смотреть и хвостом помахивать. Но мой крик всполошил лежавшего рядом с Джеком человека. Он быстро вскочил, и, видимо, со сна не совсем понимая, что происходит, как-то испуганно ойкнул, затем, увидев меня, стал отряхиваться, поправлять свалившуюся шапку и запрятывать по плечам кудрявые чёрные волосы. Тут я узнал, что это была Катя Шуйская. Вместе с ней вскочил и потянулся, раскрыв свою пасть и Джек. Она немного смутилась, но рассказала мне, что произошло. Оказывается, она возвращалась с дежурства и, проходя мимо моей землянки, услышала жалобное поскуливание собаки. Катя поняла, что пёс просится погулять, подошла и открыла дверь. Джек стрелой промчался мимо неё и скрылся в кустах на окраине батальона. Девушка решила дождаться его возвращения, притворила дверь и сперва села на топчан, а затем пересела на Джекову подстилку и стала подкладывать в маленькую печурку кусочки хвороста, а там, согревшись, незаметно и заснула. Она не слышала, как вернулся Джек, самостоятельно открывший дверь, как он улёгся рядом с ней, и проснулась только после того, как я окрикнул Джека. Меня удивило, как это Джек её не тронул, и как она не побоялась открыть дверь. Катя сказала, что ведь она накладывала гипс Джеку на лапу, и он, наверно, это помнит, поэтому на неё никогда не ворчит. И на самом деле, пёс спокойно стоял рядом с ней и даже не пытался куда-нибудь отодвинуться. Рассказав всё это мне, она повернулась к выходу и только просила меня вам ничего не говорить.
– Ну, ты выполнил её просьбу?
– А что же выполнять? Чего ж тут секретного? – искренне изумился Игнатьич. – Этот случай, наоборот, надо всем рассказать, чтоб все в санбате знали, какой у нас пёс умный и что он беззащитного «своего» никогда не тронет, а то ведь тут некоторые его ославили, как самого злого зверя, и на цепь велят сажать…
– Ну ладно, Джека я скоро заберу, вот переедем на новое место, я опять в медсанбате буду жить, и он со мной будет.
Конечно, всегда, когда Алёшкин уезжал из батальона, Джек пытался уехать с ним, и только суровое запрещение хозяина заставляло его грустно, с поджатым хвостом, отойти от машины и вернуться в землянку Игнатьича.
Когда Борис после почти десятидневного отсутствия появился в батальоне, то радости Джека не было границ. Он неистовствовал, прыгал и даже лаял с таким азартом, что Алёшкину пришлось несколько раз прикрикнуть на собаку и слега стегнуть его прутиком. Но и после этого весь вечер Джек старался быть рядом с Борисом, класть голову ему на колени, лежать под столом у его ног, одним словом, всячески выказывать восторг и преданность своему «божеству».
Глава седьмая
На следующий день после посещения штаба дивизии, командира и её комиссара, Алёшкин приступил к своим довольно-таки нудным и очень скучным для него обязанностям: он стал объезжать все полки дивизии, стоявшие в лесах вокруг Жихарево и Войбокало.
Старослужащие бойцы приводили себя в порядок, заменяли совершенно изношенное обмундирование и обувь, получали новое оружие, в частности, автоматы ППШ. До этого их в частях считали единицами, теперь выдавали сотнями.
Бойцы мылись, стриглись, брились, теперь уже в настоящих, бывших поселковых железнодорожных банях, там же проводилась дезинсекция белья и одежды.
Медслужбы полков занимались приёмом, медосмотром и санобработкой прибывающего пополнения. Естественно, что руководство этим делом, а также и постоянный контроль за ним, осуществлялся начсандивом. Пополнения поступило много, дивизия укомплектовывалась до полной штатной положенности, и, конечно, все вновь прибывшие нуждались не только в строгом медицинском контроле, но и в соответствующей политической работе. Поэтому часто посещение того или иного полка или подразделения начсандивом проходило совместно с комиссаром дивизии или начальником политотдела.
Иногда вечером, после окончания работы, Марченко приглашал Бориса к себе ужинать. Жил он в то время в посёлке Жихарево, занимая две комнаты в деревянном двухэтажном бараке. Его квартирная хозяйка (женщина лет пятидесяти пяти) очень приветливо встречала Марченко и Алёшкина и кормила их вкусным домашним ужином.
Однажды, приехав на такой ужин к Марченко, Борис с удивлением обнаружил в квартире Валю. А услышав, что та называет угощавшую их женщину мамой, он понял, что Марченко, очевидно, питавший к этой девице серьёзные чувства, вывез и её мать из Ленинграда и устроил здесь, недалеко от себя.
Между прочим, как стало известно Борису из рассказов всезнающего Вензы, Валя, видимо, по природе не отличавшаяся постоянством, да, кроме того, и не платившая взаимностью Марченко, очень скоро по прибытии в медсанбат начала соблазнять нового командира медроты – врача Сковороду, молодого и интересного человека.
Прокофьева строго выговаривала Вале, но сдержать эту порывистую, своенравную молодую женщину было нелегко. Опасаясь, чтобы дело со Сковородой не зашло слишком далеко, а отношения развивались быстро, и зная, что в первую очередь может пострадать именно Сковорода, Зинаида Николаевна упросила Марченко забрать Валю из медсанбата и перевести её куда-нибудь в другое подразделение.
Тот понял, в чём дело, и хотя о конкретном объекте нового увлечения Вали и не знал, организовал её немедленный перевод. При помощи санотдела армии он устроил её в госпиталь, где был начальником Перов. Весь персонал этого госпиталя состоял из женщин, а сам Виктор Иванович был настолько поглощён своими отношениями с патологоанатомом Евгенией Васильевной, что не представлял опасности. Да и к Жихареву этот госпиталь был расположен очень близко, что облегчало свидания с матерью и встречи с Марченко.
Между прочим, дружба начальника политотдела дивизии Лурье с дружинницей Аней Соколовой тоже окрепла и, по существу, уже перешла границы простого знакомства. Редкие свидания в батальоне не удовлетворяли их обоих, и начальник политотдела решил перевести Аню в ансамбль песни и пляски, организованный при политотделе дивизии. Соколова обладала недурным голосом, хорошим слухом, и её выступления на концертах встречались хорошо. Пребывание её в ансамбле было оправдано.
Нас могут упрекнуть, зачем мы об этом пишем. В произведениях о войне очень много говорится о героических подвигах, совершённых бойцами и командирами наших замечательных Вооружённых сил. В числе таких бессмертных героев были и женщины. И очень часто описывается какая-то сверхъестественная, прямо-таки неземная, любовь героев произведений, приводящая к гибели обоих или одного из них. И почти ничего не говорится о тех постоянных, обычных отношениях, которые могли возникнуть и возникали в сотнях, тысячах случаев между мужчинами и женщинами, вынужденными длительное время находиться рядом: общаться друг с другом, вместе есть, вместе спать, иногда укрывшись одной шинелью, вместе выполнять все те многотрудные обязанности, которые на них в равной степени, вне зависимости от пола, накладывала война.
Уже через год после начала войны появилось грубое и глупое сокращение «ППЖ» –походно-полевая жена, цинично оскорбляющее, на наш взгляд, вполне естественные отношения между постоянно общавшимися мужчинами и женщинами. Конечно, в этих отношениях не всё и не всегда было достаточно чисто и пристойно, с нашей сегодняшней точки зрения. Но если понять моральное состояние тех людей, которые были внезапно вырваны из мирной обычной жизни, оторваны от семей, то можно объяснить их тягу друг к другу. И ничего удивительного, что дружба между мужчинами и женщинами в огромном большинстве случаев приводила к интимному сближению. Это случилось с нашим героем в первые месяцы войны, а теперь, через год после её начала, он наблюдал, как то же самое происходило со многими другими. Даже в пределах одной дивизии образовалось бесчисленное количество парочек: Марченко и Валя, Лурье и Аня, Перов и Шацкая, комдив Володин и фельдшер Волошина, Картавцев и медсестра Бурева, старшина Красавин и медсестра Шуйская, старшина Бодров и дружинница Кузнецова, командир 50-го стрелкового полка и медсестра Фаина Хайруллина и ещё много-много других. И в большинстве случаев их отношения работе, службе не мешали, а, наоборот, приносили только пользу. Эти парочки помогали друг другу переносить тягости военной жизни, поддерживали один другого.
Были среди них и такие случаи, когда подобная связь роняла авторитет одного из партнёров, как, например, у Марченко и Вали. Но подобное было всё же исключением.
Трудно сказать, на что, сходясь, рассчитывали эти парочки. Ведь у одного из них, а иногда и у обоих, где-то за линией фронта или в глубоком тылу остались семьи. Как расценить их связь, не знаем… Но что их чувства в то время, когда они каждый день, каждый час рисковали жизнью и, как мы потом увидим, некоторые так и не дожили до конца войны, всё-таки заслуживают доброго слова, а не огульного презрения и осуждения, как это происходило после войны.
Мы ещё вернёмся к этому вопросу, когда будем описывать жизнь людей, так или иначе связанных с нашим героем, пока же ограничимся только одним. На войне – состоянии для человека противоестественном, когда каждому активному участнику её ежечасно, ежеминутно грозит смерть, а умирать никто не хочет, существует и должно существовать естественное стремление человека жить. Самая обыкновенная человеческая жизнь со всеми её многосторонними проявлениями, в том числе и с любовью – иногда настоящей, чистой, прочной и крепкой, сохраняющейся на всю последующую жизнь, иногда внезапной, кратковременной, но бурной и страстной, оставляющей след, а иногда мелкой, эгоистичной, расчётливой и, благодаря этому, опошленной и униженной до грубых, почти животных отношений. Во всяком случае, все эти чувства являлись проявлением жизни, которая и в военное время, и на фронте (а там, может быть, острее, чем где-либо) шла своими безудержными шагами, а, следовательно, чувства эти существовали, и отмахнуться от них, чего, быть может, многим и хотелось бы, невозможно.
Но достаточно об этом, вернёмся к нашему основному герою Борису Алёшкину.
Прошёл июнь 1942 года, у Бориса вновь прервалась связь с семьёй. Фашисты с наступлением тепла нанесли новый удар, сосредотачивая теперь свои главные силы на южном участке фронта. Они сумели парализовать попытки Красной армии освободить Харьков, вновь взяли Ростов и фактически опять отрезали Кавказ от Центральной России.
Борис почти еженедельно писал письма своей Кате, а от неё уже около месяца не получал ничего. Конечно, он и в мыслях не допускал, что его семье может угрожать какая-нибудь непосредственная опасность. Александровка находилась так далеко в тылу, что не верилось, что фашисты когда-нибудь сумеют туда дойти. Но он понимал, что его бедной Кате сейчас тяжело материально, ей приходится напрягать все свои силы, чтобы как-то сводить концы с концами.
Конечно, надо прямо сказать, что Алёшкин, находясь в составе действующей армии, получая в положенные сроки необходимую одежду, пищу да, как командир, кое-какие дополнительные продукты, невольно оторвался от тех повседневных бытовых нужд, которые постоянно довлели над его семьёй, и, хотя часто думал о тяжёлом её положении, но истинных размеров тех тягот, которые она испытывала, даже не представлял.
Время шло. Павел Александрович Лурье, начальник политотдела дивизии, был срочно отправлен на курсы переподготовки куда-то в Среднюю Азию. Теперь в поездках по частям Борис всё чаще сопровождал комиссара дивизии Марченко. Вечерами после ужина они обычно беседовали о самых разных вещах.
Между прочим, Алёшкин обратил внимание, что, видно, по приказу комдива и комиссара, в полках и подразделениях велись не обычные строевые и стрелковые занятия, которыми было заполнено первое время вновь прибывшего пополнения, а какие-то беседы с небольшими группами бойцов. В центре таких групп оказывались один-два старослужащих красноармейца, воевавших в дивизии с самого начала, с Карельского перешейка, перенёсших ужасы Невской Дубровки и тяжесть оборонительных боёв в Синявинских болотах. Как правило, многие из них были ранены и вернулись в свои части по выздоровлении. Большинство – коммунисты и комсомольцы. Очень часто эти бойцы не только рассказывали, а прямо-таки наглядно показывали, объясняя тот или иной эпизод боя, в котором им довелось участвовать. Бориса это немного удивляло, тем более что иногда в этих беседах и командиры принимали участие в качестве слушателей. Он как-то спросил об этом Марченко.
Тот, усмехнувшись, ответил:
– Видишь, Борис Яковлевич, все за год немного поумнели. Поняли мы, да, наверно, кое-кто и повыше, что, сколько бы ни восхвалялись и ни возносились подвиги отдельных героев, как бы высоко ни было наше уважение к ним, войну делают не они. Войну делают массы людей, все эти бойцы и командиры, которым вскоре придётся испытать на себе, на своей шкуре, что такое настоящий бой. И никакими строевыми занятиями, общими политбеседами того, что могут рассказать своим товарищам эти простые бойцы, мы не достигнем. Ты, пожалуйста, не подумай, что я против военной или политической подготовки, совсем нет, всё это нужно. Но в то же время, такие товарищеские беседы «старых» с «молодыми» совершенно необходимы. Нужна индивидуальная подготовка. Конечно, главными пропагандистами, агитаторами, учителями должны быть коммунисты, испытавшие на себе тяжесть блокадных боёв. Мы уже приходим к выводу, что война – это та же работа – неприятная, опасная – но всё же работа. И на ней каждый должен работать не только честно и добросовестно, но с таким старанием и умением, чтобы не подвести соседа и суметь остаться целым самому. Вот в этом и заключается сущность проводимых бойцами бесед. Между прочим, и тебе в своих медучреждениях нужно бы организовать что-то подобное.
Борис задумался: «А ведь, действительно! Медсанбат пополнился новичками почти на 50 %, в медсанротах полков пополнение составило ещё больший процент. А с вновь прибывшими после того, как их обмундировали и зачислили в определённые подразделения, кроме общих политзанятий, да краткого ознакомления с теми обязанностями, которые на них ложатся по должности, никакой работы не велось».
Через день, собрав в медсанбате старших врачей полков и пригласив на это совещание командира медсанбата, комиссара и командиров подразделений батальона, Алёшкин поставил задачу проведения бесед старослужащими врачами, медсёстрами, фельдшерами и санитарами с вновь прибывшими, рассказывая именно о своём личном опыте, о сложностях и трудностях в медучреждениях, когда дивизия или полк вступает в тяжёлый кровопролитный бой.
Комиссар медсанбата предложил провести собрание личного состава батальона и попросить начсандива выступить на нём с таким же предложением, как на данном совещании. Фёдоровский отмалчивался.
Как-то однажды в беседе с комиссаром дивизии Борис сообщил ему об инертности нового командира медсанбата, но тот ответил:
– Сейчас менять руководителя в подразделениях нельзя, поздно! Но ты на всякий случай поговори с начсанармом. Я лично думаю, что у Фёдоровского своего рода шок, ведь его, по существу, за какие-то не очень значительные упущения по службе так понизили в должности – с начальника фронтового госпиталя до командира медсанбата дивизии, видно, кому-то просто под горячую руку попал. Вот он, наверно, и не пришёл ещё в себя. Думаю, что, когда в боевую обстановку попадёт, встряхнётся.
Борис и сам думал так же, и поэтому пока на самоустранение Фёдоровского от дел особого внимания не обращал, тем более что внешне в батальоне всё обстояло как будто хорошо. Новый командир медроты Сковорода, хотя и не имел ни военного, ни врачебного опыта (он окончил институт в 1941 году), обладал неплохим организаторским талантом и довольно толково выполнял как свои обязанности, так и большую часть работы командира медсанбата. Новый комиссар Кузьмин, хотя и был болезненным и в военном отношении совершенно неграмотным, всё же за время своего пребывания организовал регулярную политучёбу, ежедневную политинформацию по сводкам Совинформбюро, печатавшимся в газетах, получаемых и специально добываемых нарочным в политотделе армии, располагавшемся неподалеку.
Корифеи медсанбата – Прокофьева, Сангородский и Бегинсон вели достаточно интенсивную работу в своих подразделениях, как в смысле обучения пополнения, так и в организации работы подразделений. Правда, за время пребывания в районе Жихарева в период формирования дивизии практической работы в медсанбате почти не было. Это, конечно, снижало качество занятий.
Большую работу провёл начснабжения санбата Прохоров, он организовал ремонт палаток, ведь мы уже знаем, что пришлось испытать этим несчастным палаткам за зиму 1941–1942 года. Много раз их стены вмерзали в снег и лёд, и столько же раз их из этого ледового плена приходилось вырубать топорами и ломами. Немудрено, что к лету 1942 года почти все палатки имели оборванные, прогнившие стенки до полуметра в высоту, при натягивании они висели бахромой. Сейчас, летом, это было не очень страшно и угрожало только светомаскировке, так как каждая палатка ночью, когда в ней горел свет, была окружена как бы сиянием, исходящим из-под стен. Зимой в ней было бы невозможно ни жить, ни работать: наружный воздух никакой печкой нельзя нагреть.
Посоветовавшись с Алёшкиным и Сковородой, Прохоров решил надставить нижние края палаток так, чтобы сделать их стены нормальной длины. Возник вопрос, где взять брезент. Вышли из положения так: израсходовали часть имевшегося у каждой палатки брезентового пола. Пользоваться этими деталями по прямому назначению почти не приходилось – разостлать и закрепить их ровно, так, чтобы они не смещались, было невозможно, и во время работы они ёрзали по земле, путались под ногами, а в болотистой местности намокали и коробились. Одним словом, полы не облегчали работу, а только затрудняли её. Уже с весны 1942 года при развёртывании палаток полов не настилали.
По просьбе медсанбата из санотдела армии выдали две новые палатки. Брезента для ремонта дать не могли, оставалось использовать свои ресурсы. Но ведь это легко сказать, а сшить толстые края брезента, когда это попробовали сделать руками медсестёр и дружинниц, оказалось делом далеко не простым. Починить следовало 14 палаток. Выручила находчивость.
В дивизии имелась своя сапожная мастерская. К этому времени уже все воинские соединения поняли, что без соответствующих хозяйственных учреждений, не предусмотренных штатным расписанием, – сапожной, портняжной мастерских, прачечной и даже парикмахерской – обойтись нельзя. Все они полагались в масштабах армии, но практически были нужны и в дивизиях, и в полках, и их, вопреки всяким уставам и правилам, ввели у себя не только крупные соединения, но даже и такие, как медсанбат.
Прохорову удалось выпросить в армейском интендантстве во временное пользование две сапожные швейные машины, и тогда дело с ремонтом палаток пошло значительно быстрее. Так или иначе, но к концу июля медсанбат имел достаточный палаточный фонд.
Во время пребывания около станции Жихарево использовалось только пять палаток, а все остальные после ремонта и просушки были тщательно упакованы и готовы к передислокации. Вопрос об этом уже назревал: командира и комиссара дивизии несколько раз вызывали в штаб армии, где совместно с ними разрабатывались какие-то планы. Затем к этому делу привлекли начальника штаба дивизии и некоторых из начальников служб.
Наконец, 10 августа 1942 года в штабе дивизии собрали совещание, на котором присутствовал и Алёшкин. Командир дивизии зачитал приказ командующего армией генерал-лейтенанта Старова и доложил план проведения операции, разработанной штабом дивизии. По этому плану выходило, что 19–20 августа 65-я стрелковая дивизия совместно с приданными ей частями начнёт наступление северо-западнее станции Назия в направлении рабочего посёлка № 7, Синявино и далее, к берегам Невы, пытаясь таким образом рассечь блокадное кольцо Ленинграда и изолировать фашистские части, находящиеся в Шлиссельбурге, а в дальнейшем их уничтожить.
На этом совещании командир дивизии сообщил, что одновременно с началом наступления соединений и частей нашей армии начнётся операция и войск Ленинградского фронта, расположенных на пятачке Невской Дубровки. Главная задача, стоявшая перед 8-й армией, а, следовательно, и перед 65-й дивизией, находящейся на острие главного удара, – как можно скорее соединиться с войсками Ленинградского фронта. Командир дивизии разъяснил, что, если это наступление удастся, то оно принесёт большое облегчение осаждённому Ленинграду.
Уже всем было известно, что немецко-фашистские войска летом 1942 года сосредоточили свои главные силы и начали активное наступление на Южном фронте, а 23 июля 1942 года двинулись на Сталинград. По данным разведки, немцы в настоящее время не ожидают активных действий на Волховском фронте, и поэтому даже сняли часть своих сил из кольца блокады для направления под Сталинград.
После совещания у всех появилось приподнято-радостное настроение, все надеялись на успех. Начальник штаба дивизии, полковник Юрченко, оставив Алёшкина у себя, разработал с ним план медицинского обеспечения наступления. Он посоветовал разбить медсанбат на два эшелона, первый выдвинуть в район станции Назия, на место бывшего расположения штаба 50-го стрелкового полка.
– Там остались кое-какие постройки, – заметил он.
А второй – в полусвёрнутом состоянии разместить в небольшом лиственном (осиновом) леске, возле села Путилово, чтобы с развитием наступления перебросить его через первый вперёд и обеспечить таким образом бесперебойный приём раненых.
После разработки этого плана начштаба послал Бориса в санотдел армии, чтобы тот согласовал его с начсанармом и выяснил, каков план обеспечения дивизии госпиталями.
Мы уже говорили о том, что с начала лета 1942 года в санотделе 8-й армии произошли значительные изменения: начсанарм Скляров был переведён в другую армию Волховского фронта, вместе с ним туда же перешли хирург Брюлин и терапевт Берлинг. Вместо них пришли новые люди.
Начсанарм, военврач первого ранга Чаплинский, высокий и черноволосый, на первый взгляд имел вид сурового и строгого человека. На самом деле он оказался очень мягким, нерешительным и слабовольным. Кроме того, раньше он служил начальником медслужбы какого-то соединения Среднеазиатского военного округа и в боевых действиях ещё не участвовал. Впоследствии мы увидим, как личные качества Чаплинского и отсутствие у него боевого опыта отрицательно сказались на работе медслужбы и армии, и дивизий.
Выслушав доклад Алёшкина, начсанарм никаких замечаний не сделал, а на вопрос о госпиталях ответил, что надо рассчитывать на эвакопункт, расположенный в районе Войбокало, который и будет эвакуировать раненых из медсанбата дивизии.
После этого Борис решил познакомиться с новым армейским хирургом. В землянке, занимаемой ранее Брюлиным, он увидел невысокого, светлоголового, с седоватыми висками врача второго ранга. Тот сидел к двери спиной и что-то писал. Голос его, когда он ответил на стук Бориса: «Войдите!», показался Алёшкину странно знакомым. Когда же сидящий обернулся к нему, то Борис чуть ли не вскрикнул от изумления: перед ним сидел не кто иной, как Юлий Осипович Зак, ассистент с кафедры А. В. Вишневского, который вёл их группу, и с которым Алёшкин неоднократно совместно оперировал больных. За время этой учёбы у Бориса с Заком сложились очень хорошие товарищеские отношения.
Когда Алёшкин произнёс уставную фразу о прибытии к армейскому хирургу начсандива 65-й дивизии, Зак вскочил с табуретки и, ещё не разглядев в полутьме землянки вошедшего, воскликнул:
– Это какой же Алёшкин? Неужели тот, который у нас на курсах в 1940 году учился?
Борис улыбнулся:
– Тот самый, Юлий Осипович, тот самый! Ваш ученик.
– Как же так? – возмущённо вскричал Зак. – Почему же ты начсандив? Что они там, в кадрах, совсем спятили, что ли? Для чего же мы тебя хирургии учили? Ты-то что? Или хирургия разонравилась? Нет, это форменное безобразие, мы учим-учим, стараемся! Люди толковые попадаются… И вот, пожалуйста, вместо того, чтобы использовать человека по специальности, его администратором сажают! А может быть, ты сам за чинами погнался? Знаешь что, у нас здесь в одном госпитале нет ведущего хирурга, да и остальные-то так себе, пойду сейчас к начсанарму и добьюсь назначения тебя на эту должность. Конечно, трудновато будет, ну, да я рядом, всегда помогу, и Саша Вишневский к нам часто наведывается, он ведь у нас фронтовым служит. Так я пойду…
– Подождите, Юлий Осипович, – остановил его Борис, – выслушайте сперва меня.
И он рассказал всю историю своей военной службы, подчеркнул, что хирургия для него – самое главное в жизни, что он её не бросал и не бросит. Если сейчас ему и приходится выполнять несколько иные функции, он убедился, что они также необходимы, и от них во многом зависит и правильность, и возможность хирургического лечения.







