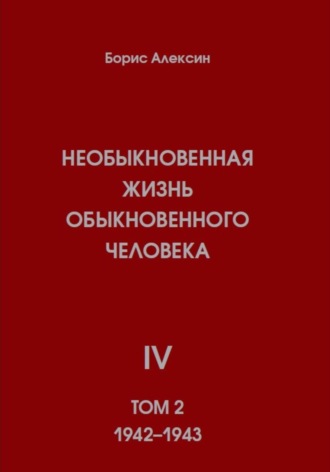
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 2
– Николай Васильевич, это вы, как я рад! Как хорошо, что вы приехали!
Тот, увидев неподдельную радость во всём облике начсандива, видимо, был и польщён, и тоже обрадован. Он крепко пожал протянутую подбежавшем Борисом руку. Хотя его глаза, спрятанные под очками, весело улыбались, лицо приняло довольно суровое выражение, и он сказал:
– Товарищ Алёшкин, подожди радоваться-то. Сейчас мы тебе разгон учиним, посмотрим, как тогда ты обрадуешься… Как же ты мог допустить такое безобразие, где ты был? Почему раньше никаких мер не принял?..
Неизвестно, чем бы кончилась тирада Склярова, если бы в этот момент почти над самыми головами стоявших на дороге людей, едва не задевая колёсами верхушки деревьев, с рёвом пронеслась эскадрилья краснозвёздных истребителей, направившихся в сторону передовой, где в это время с воем кружились немецкие бомбардировщики, и беспрестанно доносился грохот взрывающихся бомб.
Появление «ястребков» было таким неожиданным и стремительным, что все люди, стоявшие на лежневой дороге, ведущей к медсанбату, невольно присели на корточки.
Первым поднялся Алёшкин, как более привычный к взрывам и обстрелу. Он улыбнулся, заметив побледневшие и немного растерянные лица прибывших, и сказал:
– Это наши пролетели, но могут и фрицы пожаловать. Пойдёмте с дороги, да и машину нужно убрать. Товарищ Венза, – повернулся он к подошедшему писарю, – проводите машину в укрытие, где наши стоят, а мы пойдём ко мне. Мой домик, хоть и не очень надёжное укрытие, но от осколков защитит, да и замаскирован хорошо. Кроме того, там и щель есть. Да, впрочем, вряд ли фрицы сюда полетят, им сейчас, наверно, не до того.
И действительно, со стороны передовой раздавался беспрерывно такающий лай довольно многочисленных зениток, а вскоре к нему присоединились звуки стрельбы самолётных пушек и пулемётов. Начался воздушный бой. Очевидно, немецкие бомбардировщики, старательно утюжившие территорию своих бывших окопов, явились без прикрытия, и внезапное появление значительного количества (не менее дюжины) советских истребителей основательно напугало их, строй моментально нарушился. Одни, опутанные дымом от удачной атаки «ястребков», удирали в свою сторону, другие с оглушительным взрывом врезались в только что разбомбленную ими землю, а большинство, торопливо освобождаясь от бомбового груза, беспорядочно разлетались в разные стороны, стремясь поскорее уйти от меткого огня советских лётчиков.
Появление немецких бомбардировщиков на переднем крае в последнее время было сравнительно редким. Как правило, они появлялись вечером, когда могли, прикрываясь лучами заходящего солнца, незаметно выскользнуть из-за леса и обрушить бомбовый удар куда-нибудь на Волхов, в район Войбокало или Жихарево. Но и это в большинстве случаев им не удавалось исполнять удачно. В распоряжении армии и фронта имелось уже достаточно противозенитной артиллерии и авиации. Большую часть бомбометаний фрицы проводили не по намеченным объектам, а по окрестным лесам и болотам, причём, как правило, далеко не безнаказанно. А тут вдруг бомбёжка переднего края!..
Пока вся группа врачей шла к домику Алёшкина, он успел подумать обо всём, что мы рассказали. Но вот, наконец, гости расселись на топчанах, а Скляров – на единственную табуретку, имевшуюся в домике начсандива. Николай Васильевич потребовал от Алёшкина отчёта обо всём, что произошло в дивизии. Борис Яковлевич охотно сообщил уже известные нам сведения и в свою очередь предъявил претензии к санотделу армии, не обеспечившему своевременную эвакуацию раненых из медсанбата.
Скляров ответил:
– Ну, это уже в прошлом, теперь начсанармом назначен я. Мы с Юлием Осиповичем приняли соответствующие меры, и сейчас, наверно, с того расположения санбата раненые вывезены все. Отсюда тоже будем вывозить своевременно. Надеюсь, что новый командир санбата, которого я тебе привёз, будет не таким, как Фёдоровский. Последнего с соответствующей характеристикой я отправил в распоряжение санупра. Вот, – Скляров указал на молодого человека, вставшего при этом с топчана. – Знакомьтесь, военврач третьего ранга Пронин Пётр Константинович. Был начальником санотдела морской бригады, номер её неважен. Бригада эта понесла очень большие потери, её части распределены по другим соединениям. Начсанслужбы освободился, вот я и решил назначить его командиром 24-го медсанбата. Мне кажется, он вполне справится.
– А я? – невольно вырвалось у Бориса.
– А вы, товарищ Алёшкин, пока начсандивом 65-й остаётесь. Правда, Юлий Осипович хлопочет о том, чтобы вас в какой-нибудь госпиталь хирургом взять, но я сейчас этого сделать не могу. Хирурги, конечно, нужны, но начсандивы пока нужней, так-то! Давайте пройдём по медсанбату, затем вы с товарищем Прониным поедете представляться командованию дивизии.
И тут Борису внезапно пришла в голову смелая мысль. Он подумал: «Если я останусь начсандивом, кто его знает, как повернётся дело, может, совсем от хирургии оторвусь. В последние двое суток и часа в операционной поработать не удалось», – и он решился:
– Николай Васильевич, разрешите с вами по-товарищески поговорить – не как с начсанармом, а как с военврачом первого ранга Скляровым.
Тот улыбнулся и, прихлёбывая горячий чай, который уже успел принести и разлить в кружки расторопный Венза, заметил:
– Ну что ж, мы знакомы уже не первый день. Разрешаю, говорите!
– Николай Васильевич, – заявил Борис, – накажите меня!
– Что-о?!
– Да-да, накажите меня. Ведь я тоже виноват в задержке эвакуации раненых из медсанбата…
– Как же вас наказать? Наряд вне очереди дать, или выговор в приказе по санотделу армии объявить? – засмеялся Скляров.
– Нет, совсем нет! Понизьте меня в должности. Назначьте командиром медсанбата, а товарища Пронина назначьте начсандивом 65-й. И мне, и ему эти должности лучше подойдут. Ведь он строевой врач, специальную академию окончил, а я простой хирург, мне батальон ближе будет.
Зак даже руками хлопнул от удовольствия:
– Вот это придумал! Вот молодец! Соглашайтесь, Николай Васильевич, скорее. За хирургическую работу медсанбата мы тогда спокойны будем.
– Эк, какие вы скорые, – заявил начсанарм, – а за санслужбу дивизии кто спокоен будет?
– Да что вы, Николай Васильевич! Товарищ Пронин справится, я уверен в этом. Ну, а потом, и я ведь тут же под боком буду, если ему что-нибудь понадобится, я ведь всегда со всей душой.
– Давайте-ка спросим товарища Пронина, – наконец произнёс начсанарм.
А между тем Пронин, успевший посмотреть часть хозяйства медсанбата, находившуюся на пятачке второго эшелона, уже давно с большой тревогой размышлял, как ему будет тяжело руководить всем этим хозяйством. Он ведь не имел никакого хозяйственного опыта, а тут, как он понял, нужно быть и лечебником хорошим, и в хозяйственных делах как следует разбираться.
Пронину ещё не было и тридцати лет, в академии имени Кирова его готовили на должность старшего врача полка. Окончил он её из-за войны досрочно и тоже только из-за войны сразу попал на должность начсанбрига. Ему казалось, что с этой работой он справлялся, а тут предстояло стать руководителем лечебного учреждения – дело для него совершенно незнакомое. «Конечно, дивизия – это не морская бригада, тут не 2 000–2 500 человек, а все 15 000, но характер работы тот же, да и должность-то выше», – думал он. Его поддержал Борис:
– Товарищ Пронин, будьте другом, согласитесь с моей просьбой! Не пожалеете, я уверен, что мы хорошо сработаемся, и за медсанбат вам краснеть не придётся. За это я ручаюсь!
Скляров махнул рукой.
– Ну, кажется, вы меня убедили, будь по-вашему. Иди, Борис Яковлевич, показывай теперь твоё хозяйство, – он подчеркнул слово «твоё» и с этими словами встал из-за стола.
Часть третья
Глава первая
Так в жизни нашего героя наступил новый этап, он стал командиром 24-го медсанбата 65-й стрелковой дивизии.
Спустя несколько часов начсанарм и армейский хирург уехали, удовлетворённые хорошей организацией и порядком. По батальону же распространилась весть о том, что Борис Яковлевич Алёшкин назначен его командиром. Надо сказать, этому назначению были рады все: и Сангородский, и Прокофьева, и Бегинсон, и Картавцев, и Скуратов, и даже комиссар Кузьмин.
Алёшкина все знали с момента организации батальона, и единогласно считалось, что гораздо лучше находиться под началом знакомого и уважаемого врача, каким был для всего личного состава батальона Алёшкин, чем попасть в подчинение к такому, как Фёдоровский. Ну, а каким окажется новый начсандив, в медсанбате никого особенно не волновало.
Вечером этого же дня оба вновь назначенных начальника уже ехали в штаб дивизии. Борис пребывал совсем не в радужном настроении и не со спокойной душой: как-то воспримут эту новость и согласятся ли с ней командир и, главным образом, комиссар дивизии?
К тому времени почти все подразделения наступавших полков уже вернулись в пределы бывших первых линий немецких укреплений, успев вывезти захваченную немецкую технику, все продукты и большую часть боеприпасов. То, что взять не успели, взорвали.
Немцы, ещё раз обработав уже покинутую бойцами 65-й дивизии территорию Синявинских торфоразработок артиллерией и авиацией, к вечеру бесполезный огонь прекратили, очевидно, установив разведкой, что в обстреливаемых и разбомбленных районах частей Красной армии уже нет.
Наступило относительное затишье. Командиры всех степеней 65-й дивизии понимали, что, как только немцы освоят подкрепление, которого они, видимо, дождались, начнут наступление, займут оставленную территорию и предпримут всё возможное, чтобы вернуть оставленные ими благоустроенные траншеи. А может быть, и продвинутся дальше на восток, к Волхову.
Естественно, поэтому на передовой все отошедшие туда подразделения спешно занимались улучшением укреплений, починкой блиндажей и дотов и поворотом основных точек обороны на запад. В штабе дивизии командир и его ближайшие помощники занимались планами организации обороны в глубину нового расположения частей дивизии с таким расчётом, чтобы безусловно выполнить приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина от 25 июля 1942 года № 227 – «Ни шагу назад!»
Все понимали, и прежде всех командир дивизии Володин, что неудавшуюся попытку прорыва блокады и невозможность удержаться на образовавшемся выступе, оставленном к тому же по приказу штаба армии, могут и простить, но, если дивизия не сумеет удержаться на этих рубежах, пощады не будет. Не говоря уже о том, что прорыв немцев в этом месте может привести к тяжёлым последствиям для всего Волховского фронта и города Ленинграда.
Именно поэтому адъютант командира дивизии капитан Поспелов, выйдя из той части землянки, где собрались оперативные работники, заявил прибывшим врачам, что комдив принять их сейчас не может, но он доволен работой медслужбы, так как по докладам командиров полков все раненые с передовой вывозились своевременно. Комдив сказал, что ему непонятно решение начсанарма и предложил, если они торопятся, доложить обо всём комиссару дивизии.
В землянке комиссара дивизии было тоже полно народу, там проходило совещание политработников. Лишь часов в двенадцать ночи Алёшкин и Пронин сумели попасть на приём к комиссару дивизии. Борис подробно рассказал о положении в медсанбате, о тех мерах, которые принял он сам и которые были приняты санотделом армии. Сказал он также, что на должность начсанарма вернулся Николай Васильевич Скляров, с которым комиссар был в очень хороших отношениях.
К тому, что Алёшкин назначен командиром медсанбата, а начсандивом 65-й назначен военврач третьего ранга Пронин, комиссар дивизии отнёсся совсем не так, как ожидал Борис. Помолчав немного, он произнёс:
– Ну что же, я одобряю твоё решение. Я понимаю, что эта перестановка произведена по твоей инициативе, Николай Васильевич не стал бы тебя понижать в должности без просьбы с твоей стороны, он всегда отзывался о тебе положительно. Да и в этой неудавшейся операции та часть работы медслужбы, за которую отвечал ты, со своей задачей справилась, а вот медсанбат оказался действительно узким местом… И ты, как коммунист, прав, что берёшься за это узкое место, не обращая внимания на служебное положение. Тебе выправлять работу батальона, как старому работнику, знающему всех людей, будет, конечно, легче, чем новому человеку, товарищу Пронину. Да и к любимой хирургии ты будешь ближе. Что же, я мешать не буду. Вам, товарищ Пронин, хотя вы будете формально начальником Бориса Яковлевича, я рекомендую советоваться с ним по любым вопросам, в которых встретятся затруднения. Конечно, всегда можете обращаться за помощью и ко мне, и к командиру дивизии. Да, Борис Яковлевич, помнится, в прошлом месяце я тебе рекомендацию давал. Собрание-то у вас было? Тебя в члены партии уже приняли?
– Собрание было ещё в конце июля, в члены ВКП(б) меня приняли, теперь жду утверждения политотдела.
– Ну ладно, я потороплю их. Товарищ Пронин, товарищ Алёшкин последнее время жил в медсанбате, вам я советую поселиться здесь, в штабе дивизии. Надо со всеми работниками штаба поближе познакомиться, да и с медслужбой полков тоже. Придётся тебе, Борис Яковлевич, выделить в распоряжение товарища Пронина специальную санитарную машину, ведь это только ты попутным транспортом пользовался, а вообще-то начсандиву так не положено. Вернёшься в батальон, пришли оттуда Вензу со всеми делами и машину. На днях я в медсанбат заеду, там ещё поговорим.
На этом разговор с комиссаром дивизии закончился. Узнав от Ванюши, где находится землянка начхима, в которой всегда находилось место для начсандива, Алёшкин и Пронин отправились туда. Познакомив Пронина с начхимом дивизии, интендантом третьего ранга Фёдоровым, кстати сказать, большим любителем шахмат, постоянно стеснявшимся своей, как он выражался, полной беспомощности в партиях с Алёшкиным, Борис отправился в медсанбат.
В своём домишке он оказался уже под утро. Разбудил Вензу и приказал ему собираться, чтобы ехать в штаб дивизии со всеми бумагами санслужбы дивизии и чемоданом Пронина, также приказал вызвать командира автовзвода. Когда тот явился, Алёшкин передал ему приказание комиссара дивизии о выделении в распоряжение начсандива, товарища Пронина, санитарной машины и шофёра, которые будут постоянно находиться в штабе дивизии, но числиться за медсанбатом.
Через час на подъехавшую «санитарку» Венза погрузил своё и пронинское имущество, положил связку дел медслужбы и отправился в путь. Ехал он с большим неудовольствием: по прежнему опыту Венза знал, что, во-первых, ему придётся жить в общей землянке с писарями штаба, а, следовательно, подчиняться внутреннему распорядку, который там существует. Кроме того, в свободное от непосредственной работы время начальник канцелярии штаба дивизии обязательно найдёт для него какое-нибудь дополнительное дело. Во-вторых, здесь он имел в собственном распоряжении домик начсандива, пустовавший сутками. Подружившись с полнотелой дружинницей эвакоотделения Шурочкой, Венза провёл с ней в домике немало приятных часов, теперь об этом придётся забыть. Так что, как видим, причин для недовольства переменой жизни у него имелось достаточно.
Алёшкин был в курсе личной жизни своего писаря, но не придавал этому серьёзного значения, и потому на недовольную мину и ворчание своего бывшего помощника внимания не обратил и довольно дружески с ним попрощался.
Было уже совсем светло, когда Борис, растянувшись на топчане, заснул так, что, кажется, никакие пушки его не смогли бы разбудить. Часов с шести утра немцы начали тщательную артподготовку, обстреливая свои бывшие траншеи, где теперь окопались части 65-й дивизии. Обстрел длился около полутора часов, затем с запада появились пикирующие бомбардировщики, которые начали обрабатывать передний край по-своему. Правда, нормально им это сделать не удалось, мешал довольно плотный огонь зенитной артиллерии и прилетевшие откуда-то из-под Волхова истребители. Последние быстро рассеяли строй немецких самолётов, и те, побросав часть бомб в никем не занятые болота, убрались восвояси, потеряв при этом несколько машин, которые плюхнулись в то же болото вслед за своими бомбами.
Вскоре после этой подготовки значительные пехотные силы фашистов, преодолев обстреливаемые теперь уже нашей артиллерией и миномётами Синявинские торфоразработки, пытались ворваться в свои старые траншеи, но не вышло. За прошедшие сутки дивизия сумела наладить оборону, и враг с большими потерями вынужден был отступить на край леса.
Повторяем, всего этого Алёшкин не слышал. Он был разбужен часов около двух дня Игнатьичем, принесшим ему обед, вернее, даже не им, а лаем Джека, обрадованного появлением хозяина.
Во время обеда Борис узнал от Игнатьича, что теперь весь медсанбат сосредоточился здесь, под руководством Сковороды развёрнуты все палатки, постоянно поступают раненые, в хирургическом блоке всё время идёт напряжённая работа.
Теперь, когда Алёшкин стал командиром санбата, Игнатьич становился его личным ординарцем. Борис сказал, чтобы он переселился в его домик, но Игнатьич возразил:
– Что вы, Борис Яковлевич! Я для вас подобрал другой домик, совсем близко от операционно-перевязочной, ведь вы всё равно будете туда часто ходить, он удобнее. А этот далеко на краю стоит.
Борис очень не любил переселяться:
– Да я уж тут привык… Ну ладно, посмотрим. А сейчас, знаешь что, вызови ко мне Скуратова, Сковороду, начхоза, Сангородского, Прокофьеву и Бегинсона, да пригласи и комиссара Кузьмина. Где он поселился?
– А почти рядом с тем домиком, что я для вас подобрал.
– Ладно, иди.
Во время этого разговора на западе вновь началась канонада, и с передовой послышались звуки разрывов снарядов и мин. Вскоре эти разрывы переместились к батальону. Очевидно, немцы пошли в новую атаку и перенесли огонь в глубину. Теперь снаряды рвались менее чем в одном километре отсюда, и стоило немцам чуть прибавить прицел, как батальон оказался бы в самой гуще разрывов.
Пока вызванные им товарищи собирались, Алёшкин, прислушиваясь к неутихающей артиллерийской стрельбе – кстати сказать, теперь достаточно мощной и с нашей стороны, раздумывал: «Здесь медсанбат оставлять нельзя, ведь до передовой – всего каких-нибудь четыре километра, до ППМ – два-три, до тыловых учреждений полков – и того меньше. Окрестный лес буквально нафарширован различными тыловыми учреждениями дивизии. Если там люди могут укрыться во время артналёта или бомбёжки в щелях, то большинство работников санбата и почти все раненые этой возможности лишены. Хоть здесь и отрыты щели, но ни врачи, ни медсёстры, ни санитары, работающие в палатках, не смогут оставить там раненых, а самим кинуться в эти убежища. Перенести всех раненых тоже нельзя, там могут спасаться только ходячие, а их немного. Игнатьич говорил, что из эвакопункта армии постоянно дежурят машины, и раненых, подлежащих эвакуации, вывозят немедленно, остаются лишь те, кого эвакуировать нельзя».
Раздумывая, Борис сидел на скамеечке у стола, врытого рядом с его домиком, и курил папиросу за папиросой. Прошло минут двадцать, пока вызванные им люди собрались. Они поздравляли Алёшкина с новым назначением. Никому из них, кроме разве Скуратова, и в голову не приходило, что это назначение в данный момент означает для Бориса понижение в должности и огромную ответственность. Все врачи, зная, как Алёшкин любил хирургическую работу, понимали, что теперь, постоянно находясь в батальоне, он сможет заниматься любимым делом гораздо чаще, чем раньше, и были искренне рады за него. Скуратов, всегда относившийся к Алёшкину с большим уважением и дружбой, считал его толковым командиром и был доволен тем, что теперь будет служить под его началом. Комиссару Кузьмину, присутствовавшему на партийном собрании, где Бориса принимали в члены партии и медсанбатовцы давали ему положительные характеристики, назначение нового комбата тоже пришлось по душе. Он надеялся, что теперь в этой медицинской части будет, наконец, настоящий начальник, заинтересованный в отличной работе.
Единственным недовольным оказался новый начальник снабжения, интендант первого ранга Горский. Он, как мы знаем, и раньше считал себя обиженным из-за перевода в батальон, но тогда его командиром был военврач второго ранга, а тут вообще он попадал в подчинение совсем молодому человеку, да ещё военврачу третьего ранга. Ему, носящему три шпалы, придётся подчиняться даже не кадровому командиру! Это казалось несправедливым.
Скуратов доложил, что из санотдела армии поступил приказ о назначении, и он уже подготовил внутренний приказ от имени Бориса Яковлевича Алёшкина о вступлении в должность, его надо было подписать и отправить в штаб дивизии. Новый комбат так и сделал. Затем он выслушал сообщения командиров подразделений и, к своему большому удовольствию, узнал, что все звенья батальона справлялись с непрерывным значительным потоком раненых, продолжавшим возрастать. Эвакуация из батальона проходила удовлетворительно, но в батальоне продолжало оседать сравнительно много нетранспортабельных раненых, главным образом прооперированных на брюшной полости. Большинство из них находилось в тяжёлом состоянии.
Зинаида Николаевна Прокофьева, между прочим, заметила, что такое близкое расположение медсанбата к передовой очень неблагоприятно отражалось на состоянии бойцов после операции. Они требовали немедленной эвакуации, а их следовало выдерживать в госпитальной палате не менее 5–6 дней.
Выступил и начхоз Горский. Он заявил, что весь обменный фонд белья израсходован, а из дивизии ничего дать не могут. Отправленная на армейские склады машина пока ещё не вернулась, но вряд ли что-нибудь привезёт. Тем временем в батальоне скопилось большое количество грязного белья и обмундирования раненых, которое необходимо перестирать. Он просил выделить для прачечной сандружинниц и палатку ДПМ. Алёшкин согласился с необходимостью организации прачечной, но на палатку согласия не дал. Вспомнив предложение Игнатьича, он сказал:
– Товарищ Горский, прачечную организовать нужно, людей дадим, главным образом из команды выздоравливающих. Для руководства ими выделим двух сандружинниц, но вместо палатки используйте вот этот мой домик. Начсандив будет жить в штабе дивизии, я перееду ближе к центру батальона. Здесь надо сложить печку, вмазать в неё котёл – и готова прачечная. А для сушки вон тот барак приспособим.
Шагах в двадцати от домика стоял барак размером метров шесть на десять. Он был наскоро собран из тонких брёвнышек, покрыт кусками коры и старыми досками. Раньше в нём жили бойцы охраны штаба воинской части, располагавшейся на этом месте. Когда здесь стоял первый эшелон медсанбата, несколько дней в нём жили медсёстры и дружинницы, затем они перешли в более благоустроенные помещения в центре батальона, а в этом сарайчике развешивали для сушки выстиранные халаты, бинты и кое-что из своей женской одежды.
Интендант согласился с предложением Бориса, тем более что оно звучало как приказ. Вслед за тем Алёшкин потребовал от Сковороды составления чёткого графика работы в хирургическом блоке с таким расчётом, чтобы каждый медработник операционно-хирургического взвода мог спать в сутки не менее восьми часов, столько же работать. Он просил и его включить в одну из бригад. Оставшиеся восемь часов он собирался использовать для выполнения своих административных функций.
После этого всех врачей, Скуратова и начхоза Борис отпустил, а сам с комиссаром решил обойти расположение батальона, чтобы посмотреть, где и как разместились подразделения.
* * *
Поскольку отстранение Фёдоровского и отправка его за пределы дивизии произошли чрезвычайно быстро, Алёшкину принимать хозяйство медсанбата было не у кого. Материально-хозяйственную часть совсем недавно принял начхоз Горский, а все остальные материально ответственные лица оставались на своих местах, поэтому акт о приёмке батальона составили на основании представленных ими описей и в таком виде направили в штаб дивизии и в санотдел армии. Но это произошло потом, через несколько дней, а в тот день Борис с комиссаром Кузьминым отправились в обход всех развёрнутых подразделений медбатальона.
Алёшкин видел, что командир медроты Сковорода, невольно ещё при Фёдоровском принявший на себя функции командира батальона, с делом справился хорошо. Он, очевидно, уже освоился в батальоне. Его общая медицинская подготовка, конечно, оставляла желать лучшего, но организаторские способности впечатляли. Размещение палаток и подсобных помещений он продумал и сделал толково, все строения были хорошо спрятаны и по возможности защищены от осколков снарядов или авиабомб, которые могли разорваться вблизи, за исключением самих палаток. Они, хотя и были замаскированы, но, по существу, оставались беззащитными. Брезент ни от пуль, ни от осколков не спасал, и это все хорошо понимали. Понимали это и раненые и, хотя около каждой палатки имелась довольно вместительная и глубокая вырытая в земле щель, всех раненых в них укрыть было нельзя, особенно тяжёлых. В батальоне после обработки оставались или легкораненые в команде выздоравливающих, отправлявшиеся в свою часть через три-четыре дня после оказания им медпомощи, а иногда и сразу же после неё, или нетранспортабельные после операций, которым предстояло пробыть в госпитальных палатках около шести дней в ожидании дальнейшей эвакуации. Само собой разумеется, что этих раненых ни в какие щели перенести было невозможно.
Около каждого домика, барака или землянки тоже имелись щели. Пока ими не пользовались: вражеские самолёты бомбили или передний край, или армейские тылы, причём главным образом железнодорожные пути и станции.
Во всех помещениях батальона была относительная чистота и порядок, и Борис искренне порадовался тому, что в лице Сковороды нашёл толкового помощника. Между прочим, и Кузьмин отозвался об этом молодом враче с большой теплотой, прямо сказав:
– Ну, если бы не Сковорода, то я не знаю, что было бы с батальоном, как бы мы переехали сюда и как бы здесь развернулись. Ведь всем этим руководил именно он.
Алёшкин заметил, что и комиссар своё дело знает. Проходя в эти утренние часы, сразу после завтрака по палаткам госпитального взвода, Борис обратил внимание, что в каждой из них, помимо дежурных сестёр и санитаров, находились и свободные от дежурства. Они или читали группе раненых дивизионную и армейскую газеты, или писали письма под диктовку. Прокофьева сказала, что это «политическое нововведение», которого до сих пор в медсанбате не было, придумал и внедрил комиссар Кузьмин, мобилизовав для этого комсомольцев и коммунистов из медсестёр, дружинниц и приданного батальону дивизионного ансамбля песни и пляски. Она заметила, что это «мероприятие» оказывало очень благотворное влияние на оперированных.
Алёшкин в душе ругнул себя, Клименко и Подгурского за то, что они раньше до этого не додумались, а всю политработу строили только на просвещении личного состава батальона (в период дислокации в посёлке Александровка, где для этого имелись достаточные возможности). Теперь он стал ещё более уважать своего комиссара. А тот, пожилой, тучный мужчина, обойдя со своим командиром большую площадь, занимаемую медсанбатом, причём в довольно быстром темпе, так как Борис с беспечностью, свойственной всем молодым людям, не очень-то обращал внимание на тяжёлое дыхание своего спутника – шагал и шагал себе от одной палатки к другой, сел на табуретку в одной из госпитальных палаток. Губы комиссара посинели, а дыхание было прерывистым, широко открытым ртом.
Состояние Кузьмина увидела Зинаида Николаевна Прокофьева, сопровождавшая «начальство», она шепнула что-то находившейся поблизости сестре, а сама подошла к Кузьмину, пощупала ему пульс и довольно строго сказала:
– Вот что, товарищ комиссар, сейчас вам сделают укол и проводят в ваш домик, там вы ляжете и будете лежать, пока я вам не разрешу вставать. К вам придёт секретарь партячейки, вы его проинструктируете, и пусть он пока за вас поработает. И не возражайте, а то в госпиталь эвакуирую! Идите, идите вот с Мариной, она вас проводит.
Кузьмин, пытавшийся, было, спорить, видимо, понял целесообразность распоряжения Прокофьевой и, махнув рукой, поддерживаемый высокой, белокурой и сильной девушкой – медсестрой Мариной, вышел из палатки. Зинаида Николаевна обернулась к Борису:
– Не пойму, зачем таких больных людей посылают в армию! У него тяжелейшее сердечное заболевание, да ещё плюс к этому ожирение, а у нас в батальоне ведь надо всё бегом бегать, да и физического труда немало. Вот товарищ Кузьмин с передислокацией-то совсем и расклеился. А вы, Борис Яковлевич, тоже хороши! Не посмотрев на человека, давай его таскать за собой! Я ведь знаю, в каком вы темпе ходите, вот и доконали своего комиссара, а он человек и знающий, и хороший, и организатор толковый.
Алёшкин смутился, он привык всерьёз воспринимать слова и замечания Прокофьевой. Впрочем, многие в батальоне считались с её мнением больше, чем с чьим-либо. Она действительно была высокоэрудированным врачом и собственными силами, знаниями и какой-то особой чуткостью спасала жизни многим оперированным. Все врачи это понимали. В спокойных мирных условиях или в условиях госпиталей хирурги, прооперировав больных или раненых, в дальнейшем постоянно их наблюдали, здесь же это сделать было невозможно. Все хирургические пациенты после операции выхаживались медперсоналом, которым руководила Прокофьева.
– Так ведь он сам за мной пошёл!
– Сам-сам… А что же ему было ещё делать? Вы новый командир, идёте принятое хозяйство осматривать, а он вам скажет, я, мол, пойду полежу, так что ли? Так ведь врач-то вы, а не он! Видели, в каком он состоянии, сами предложили бы ему отдохнуть.
– А я и не заметил, – простодушно сказал Борис.
– Вот в этом-то и беда, что мы людей около себя не замечаем! Ну, будете ещё что-нибудь осматривать в госпитальном взводе? Если нет, то отпустите меня. У меня там один тяжёлый лейтенантик есть. Такой молоденький, совсем мальчишка! Его часа полтора тому назад Картавцев оперировал.
– Конечно, идите, идите, – ещё более смущаясь, сказал Алёшкин.
Выйдя из госпитальной палатки, он нос к носу столкнулся с Сангородским. Тот быстро подошёл к нему и, ещё не отдышавшись, начал:
– Что будем делать, Борис Яковлевич? Сейчас пришло сразу четыре машины с передовой, полнёхонькие. Шофёры говорят, что на ППМ осталось много раненых и ещё прибывают.
– Что будем делать? – почему-то вдруг улыбнулся Борис. – Работать. И как можно лучше!
– Я понимаю, что работать, да ведь опять из колеи выбьемся! Картавцев уже задыхается, он больше двенадцати часов в операционной. Иваницкую с её помощницей только что Соломон сменил, сейчас с Дурковым работает в большой операционной. «Животов» тоже несколько привезли…







