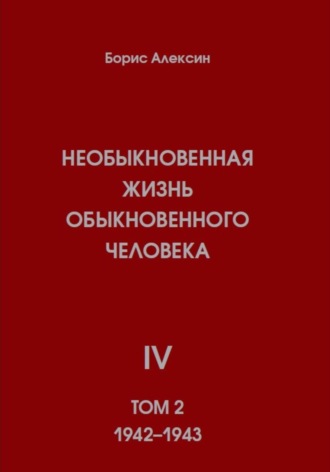
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 2
Пока Кузьмин говорил, Борис, продолжая мыться, посматривал на него. Он выглядел немного лучше, чем вчера, после обхода подразделений батальона, но был всё ещё бледен и временами не мог свободно вздохнуть.
Закончив обработку рук, Борис посоветовал Кузьмину ещё пару деньков полежать, переложив практическую работу на секретаря партячейки, а сам отправился за перегородку в операционную, сменил Картавцева и приступил к работе. Он размышлял: «В чём же дело? Зачем, действительно, нужно было посылать нашу дивизию, если не было достаточных дополнительных сил? Ведь было же ясно, что такая операция почти безнадёжна. Хоть бы с командиром дивизии или с Марченко поговорить…»
Но комиссару, видно, было не до разговоров. Они вместе с командиром дивизии почти не уходили с передовой, кочуя из штаба одного полка в другой. Оба понимали, что если дивизия не удержит этот рубеж, им не сносить головы, не говоря уже о том, какой непоправимый урон фронту может принести дальнейшее отступление дивизии. Поэтому один проявлял всё своё военное мастерство, а другой – зажигательную политическую страстность, побуждая бойцов и командиров дивизии любыми средствами отразить наступавшие, почти пятикратно превосходящие силы фашистов. И это, хотя и с ощутимыми потерями, сделать всё же удалось. Так что комиссара дивизии в её тылах не видели уже более недели.
Не было в дивизии и начальника политотдела Лурье. Он находился где-то далеко, на востоке Средней Азии, где проходил специальные курсы переподготовки политработников. Поэтому Борису по вопросу о провалившемся наступлении их дивизии и вообще, о положении на фронтах, поговорить было не с кем. Окружавшие его люди знали не больше его.
Пользуясь авторским правом, сообщим, что лишь спустя много лет, прочитав множество книг по истории Великой Отечественной войны, Алёшкин в одной из них нашёл ответ на вопрос, который волновал и его, и многих других в 1942 году.
Нет, не напрасны были жертвы, принесённые 65-й стрелковой дивизией и другими соединениями 8-й армии. Хотя тогда многие командиры и более высокого ранга, чем Алёшкин, не знали существа дела и лишь сетовали на командование за неудачу по деблокированию Ленинграда.
Дело в том, что как раз в это время закончились активные боевые действия в Крыму, и 51-я немецкая армия должна была двинуться на помощь 6-й армии под Сталинград. Узнав об активизации Красной армии на Волховском фронте, немецкое командование направило эту армию под Ленинград, чтобы попробовать, во-первых, вновь штурмом овладеть городом Ленина, а во-вторых, сдержать начавшиеся здесь активные действия наших войск. Прорыв оборонительной линии немцев, хотя и не на очень большом участке фронта, около Ладожского озера, и быстрое продвижение частей 65-й дивизии вглубь грозили тем, что блокада Ленинграда могла быть действительно прорвана, гарнизон Шлиссельбургской крепости окружён и уничтожен. Фашисты здесь не могли действовать своей главной силой – танками, чтобы ликвидировать угрозу прорыва, им пришлось бросить 11-ю армию прямо «с колёс» в бой.
В этих боях части дивизии и другие соединения 8-й армии и соседней 42-й, активизировавшей свою оборону, а также и наступательные бои войск Ленинградского фронта, сковали около двух пехотных и одну танковую дивизию фашистов, в том числе, и прибывшие из Крыма 170, 24, 28 и 23-ю пехотные дивизии. И не только парализовали их усилия по штурму Ленинграда, но, основательно обескровив, привели к тому, что, как докладывал Военный совет, «эта группировка противника сильно истощена в боях с войсками Волховского фронта и в ближайшее время неспособна без дополнительного усиления на проведение крупной наступательной операции» (архив МО СССР, дело 204, 97 и 78, листы 164–166).
Стремясь развить контрнаступление в этом районе, фашисты сняли чуть ли не две воздушные армии, предназначенные к отправке на юг, и бросили их в бои на Волховский фронт, этим и объяснялась возросшая активность немецких воздушных сил в августе 1942 года.
Но повторяем, всё это стало известно Алёшкину лишь через много-много лет после окончания войны. В то время он, как и многие другие, только досадовал на слабость нашей авиации и противовоздушной обороны, да ругался при каждом близком разрыве авиабомбы.
А бомбёжка не прекращалась почти весь этот день, как, впрочем, и следующие. Вокруг медсанбата беспрестанно рвались авиабомбы самых разных размеров, но Борису было не до этого. Ему приходилось делать множество сложных операций, к которым в обычное мирное время хирурги с гораздо большим опытом и знаниями готовятся неделями, а иногда и месяцами. Здесь же Алёшкину и всем его товарищам по работе на размышление и составление плана операции отводились минуты, да и выполнение операций требовалось быстрое.
Можно было бы описать множество случаев, когда хирурга в санбате подстерегали совершенно неожиданные сюрпризы. Вот, например, один из них, который произошёл как раз в тот день.
Перевязку легкораненых и простейшую обработку их ран, как обычно, проводил Сковорода. Делалось это, как мы знаем, на скамейках, где сидели раненые. Алёшкин бегло осмотрев восемь человек, не заметил ничего особенно серьёзного и, порекомендовав Сковороде необходимые манипуляции, направился к операционному столу. Операционная сестра была не из его бригады, он с ней работал редко, она волновалась и часто делала многое невпопад. Борис злился, а тут ещё, как назло, большой сосуд выскользнул из зажима, и быстро запульсировала кровь. Это было опасно: у раненого и так определялась большая кровопотеря. Несколько секунд, пока сосуд был пойман и наконец-таки перевязан, показались Борису чуть ли не часами.
Потом у молодого, почти мальчишки, 19-летнего бойца оказалась так раздроблена стопа, что никакой надежды на заживление раны не было, и оставалось одно – ампутировать ему ногу на уровне нижней трети голени. А это теперь в санбате делалось крайне редко, ведь если в первые месяцы войны, когда в батальон часто доставлялись раненые прямо с поля боя, с огромными повреждениями конечностей, без всякой предварительной обработки, в большинстве своём завязанными кое-как санинструктором или соседом по окопу, нуждавшимися в срочной ампутации во избежание гангрены, то теперь, к осени 1942 года, таких случаев стало мало, а вследствие этого и количество ампутаций сократилось.
И вот, когда Алёшкин только приступил к ампутации, к нему подбежал Сковорода и сообщил, что один из перевязываемых раненых вдруг потерял сознание и упал со скамейки на пол. Борис приказал перенести и уложить этого раненого на один из освободившихся операционных столов, сосчитать пульс и раздеть его. Он подумал, что у этого бойца, вероятно, было ещё какое-нибудь ранение, которого сразу они не заметили.
Он уже заканчивал обработку культи молодого паренька. Размозжённая стопа, вернее её обрывки, уже валялись в тазу, закончена обработка костей, перевязаны крупные сосуды и дана команда снять жгут. Культя, как обычно выражался Борис, «молчала», то есть кровотечения не было. Следовательно, все основные сосуды были перевязаны надёжно, ткани мышц стали понемногу наполняться кровью и принимать более живой оттенок. Натянув на культю сохранённый лоскут кожи и закрепив его несколькими швами, Алёшкин поручил перевязочным сёстрам наложить повязку, иммобилизовать культю шиной Крамера и записать раненого на эвакуацию лежа, в первую очередь. Затем пощупал культю и послушал сердцебиение. Убедившись, что сердце в порядке, сказал своему больному несколько ободряющих слов. В ответ он услышал:
– Спасибо, доктор, мне сейчас совсем не больно, только что-то пальцы на ноге занемели.
Пожилой санитар, помогавший перевязочной сестре накладывать шину, как-то криво улыбнулся в свои уже начавшие седеть усы, пробормотал:
– Ишь ты, пальцы! А где они, твои пальцы-то? Ладно, лежи уж, хорошо, хоть живой остался.
Впрочем, Алёшкин этого уже ничего не слышал. Он спешил к тому столу, где лежал раздетый и укрытый простынёй боец, упавший со скамейки. Около него стоял растерянный Сковорода:
–Товарищ командир, пульса у него почти совсем нет, а других ранений я так и не нашёл.
Борису было достаточно лишь взглянуть на раненого, чтобы определить, что тот находился в глубоком шоке. При этом он был в сознании и даже, слегка шевеля губами, силился что-то сказать.
Подозвав сестру, Борис приказал ввести раненому морфий и подготовиться к переливанию крови, затем начал осматривать раненого. Самый тщательный осмотр, кроме незначительной раны в верхней трети бедра с наружной стороны, не дал ничего. Начали переливание крови, а Борис продолжал ощупывать окружность раны, и вдруг под пальцами он почувствовал слабое потрескивание и колебание кости. Он остановился: «Неужели у него перелом бедра? Но как же он шёл, ведь он числится ходячим? Как же он в машине ехал в сидячем положении?»
Рентгена в медсанбате, конечно, не было, проверить своё предположение Алёшкин не мог. Но рану всё-таки нужно было обработать основательно, не ограничиваясь перевязкой, хотя, на первый взгляд, она казалась совсем безобидной.
Не дожидаясь полного выведения больного из шока, Борис отправился мыться, а когда через восемь-десять минут вернулся, раненый вновь находился в активном состоянии. Ему ввели два кубика морфия, влили около четырёхсот грамм крови, обложили его грелками. Он порозовел.
В это время пришла на смену врач Ниночка. Она сразу принялась помогать Алёшкину, сообщила, что пульс раненого удовлетворительного наполнения, хотя ещё и частит.
Заметив нетерпеливое движение раненого, пытавшегося встать со стола, и, очевидно, не вполне понимавшего, что с ним происходит, Борис положил руку на стерильную простыню, которой операционная сестра успела укрыть раненую ногу, и, смазав окружность раны, имеющей в диаметре едва полтора сантиметра, йодной настойкой, сказал:
– Спокойно, старшина, сейчас обработаем твою рану, поедешь в госпиталь, там полежишь недельки две, и порядок будет.
– Да вы что, товарищ военврач! – возмутился раненый. – Я приехал только, чтобы перевязку сделать, у меня и рана-то пустяковая! Недалеко мина разорвалась, и в меня малюсенький осколок угодил. Перевяжите и отпустите меня в часть.
Во время этой тирады Борис успел уже обезболить новокаином окружность раны, накачав достаточно раствора в её глубину, поэтому миролюбиво ответил:
– Ладно, ладно, помолчите немного. Сейчас посмотрим рану и отпустим.
Затем быстро рассёк рану вдоль бедра сантиметров на десять в длину, постепенно углубляясь до кости. Одновременно с этим он удалил размозжённые кусочки мышц, обрывки тканей от шинели и брюк, которые осколок захватил с собой. Его помощница крючками раздвигала рану. Вдруг в глубине что-то блеснуло, Алёшкин понял, что это осколок. Длинным корнцангом он попытался захватить его, но бранши несколько раз соскальзывали. Когда, наконец, Борис стал извлекать этот кусочек металла, раненый застонал. Пришлось вновь ввести кубиков двадцать раствора новокаина, на этот раз в ткани, окружавшие осколок, и после довольно значительного усилия его извлекли. Он был примерно четыре сантиметра в длину, полсантиметра в толщину и около двух сантиметров в ширину. Как выяснилось, он переломил бедренную кость, плотно вклинившись в место перелома. Это создало как бы иммобилизацию конечности. Осколок выполнял роль штифта, и какое-то время раненый мог пользоваться ногой. Но острые края осколка продолжали травмировать разорванную надкостницу и прилежащие к ней нервы. Раненый, кончено, испытывал сильную боль, которая, в конце концов, и довела его до шока.
Очистив рану, Борис промыл её раствором риванола, ввёл противогангренозную сыворотку, вставил тампон с мазью Вишневского и приказал наложить шину Дидерикса. Раненого направили в госпитальную палату, а через несколько дней эвакуировали. Этот осколок Алёшкин довольно долго носил в своей полевой сумке.
Кстати сказать, раненый старшина через несколько месяцев вернулся в свою часть. Перелом бедра сросся без каких-либо вредных последствий и позволил продолжать службу. Они с Алёшкиным виделись не один раз, и это можно считать редким случаем, когда Борису довелось узнать судьбу своего тяжелораненого, отправленного в тыл. Обычно о бойцах, оперированных в медсанбате, врачи батальона ничего не знали. Если тяжелораненый выживал, находясь в батальоне, если доходил до транспортабельного состояния и благополучно эвакуировался для долечивания на следующих этапах, они радовались, но получить информацию о том, что с ним стало дальше, было невозможно.
Конечно, не так было с легкоранеными. Они вылечивались или на этапе санбата в команде выздоравливающих, или в армейских госпиталях и довольно быстро возвращались в свои подразделения. Бойцы знали, кто их оперировал, лечил, ухаживал за ними, и часто поддерживали с медиками самые дружеские связи.
Мы немного отвлеклись от описания первого дня бомбёжки района, где стоял батальон, а между тем Алёшкин постоянно об этом думал. Во время мытья рук или краткого отдыха между операциями он продолжал беспокоиться, как там, на территории батальона. В воздухе всё время слышался вой немецких бомбардировщиков, рёв проносившихся на бреющем полёте «ястребков», свист и громкие разрывы бомб. Причём часто казалось, что эти бомбы рвутся где-то совсем рядом, и какая-нибудь из них вот-вот угодит в их палатку.
Заходивший иногда Скуратов успокаивал. Он докладывал, что по его приказанию на одной из самых больших елей установили наблюдательный пункт, на котором постоянно дежурил один из санитаров. При появлении самолётов с вражеской стороны он подавал сигнал, по которому дежурный или его помощник начинали бить молотком по подвешенному рельсу. Услышав этот звук, все способные передвигаться раненые, а также свободный от работы персонал, прятались в щели. Таких воздушных тревог в течение этого дня было уже пять. Пока ещё в санбате больше не разорвалось ни одной бомбы.
Борис незаметно для себя проработал у стола весь день. Когда пришёл Николай Васильевич Картавцев, солнце уже пряталось за верхушками вековых елей, окружавших территорию батальона довольно густыми рядами. Только выйдя из операционной, Борис почувствовал усталость и самое главное – табачный голод, ведь более десяти часов он не курил. Поэтому первое, что он сделал, – опустился на ближайший пенёк, вынул мятую пачку «Норда», выдававшегося тогда по командирскому пайку, и с наслаждением закурил.
Уже стемнело, и к этому времени фашистские самолёты летать прекратили. На передовой тоже вроде бы наступило затишье, лишь изредка слышался разрыв мины или где-то в стороне наша батарея производила несколько беглых выстрелов. Немцы почти не отвечали. Если бы не это, да не беспрерывное передвижение санитаров с носилками, пустыми или с лежащим на них человеком, то можно было бы принять территорию батальона за лесной лагерь туристов.
Выкурив подряд две папиросы, Борис медленно зашагал к своему домику. Вдруг ему представилось во всех подробностях, что там он опять увидит полуобнажённую женщину, и ему стало даже жарко. «Когда же я успел всю её рассмотреть? Ведь, кажется, сразу отвернулся. Она совсем ещё девчонка, сколько ей? Наверно, и двадцати нет? Да о чём это я думаю», – невольно застыдился Борис.
Тем временем он приблизился к своему домику. На пороге сидел Игнатьич, у его ног лежал Джек. Завидев Бориса, пёс бросился ему навстречу и, прыгая, пытался лизнуть хозяина в лицо. Алёшкин, почесав Джека между ушами, что тот не позволял делать никому другому, и похлопав его по боку, тихо сказал:
– Успокойся, пёс, успокойся. Сейчас отдохнём, а завтра снова за работу.
Затем он обернулся к вставшему при его приближении связному:
– Игнатьич, я есть хочу.
Тот ответил:
– Сейчас принесу и вам, и ей. Может быть, она проснётся, поедите вместе, там на кухне оставлено.
Борис не успел даже спросить что-либо, как Игнатьич быстро затрусил к кухне.
Алёшкин зашёл в домик. Он состоял из трёх маленьких отделений, сделан был из плотно пригнанных тонких брёвнышек, имел два окна и две двери. Размеры его – примерно четыре на пять метров. Строили дом умелые плотники – сапёры дивизии. По-видимому, он предназначался в своё время для какого-то большого начальника. Неизвестно, кто им раньше пользовался, но Игнатьич, со свойственной ему хозяйской сметкой, не раз выручавшей Бориса всю войну, облюбовал этот домик для своего нового командира.
Он и в самом деле был удобен. Первое отделение, шириною около двух метров, могло служить приёмной, в ней находилось большое окно, около которого был прикреплён к стене столик. Сбоку стола находилась полочка, где уже были разложены книги Бориса, и среди них – И. В. Сталин «Вопросы Ленинизма», «История ВКП(б)» и «Оперативная хирургия» Шевкуненко. С этими книгами Алёшкин не расставался с начала войны, и как бы ни было трудно, всегда таскал их с собой.
Перед столом стояла табуретка, сбоку другая, а у дощатой перегородки – скамейка, на ней помещались 3–4 человека. Рядом со стеной, где находилось окно, была небольшая входная дверь. Напротив окна, в перегородке тоже имелась узенькая дверца, завешенная плащ-палаткой. В том отделении стоял деревянный топчан, на котором Борис провёл сегодняшнюю ночь, здесь лежала его постель.
Давно уже прошло то время, когда в батальоне спали как придётся – не раздеваясь и не снимая сапог. Так было Карельском перешейке. Теперь у каждого врача и медсестры имелась настоящая постель с простынями, подушкой и одеялом. Только санитары иногда ещё спали на нарах, не полностью раздевшись.
«Спальня» Бориса имела в ширину около полутора метров. Следующее отделение, самое маленькое, – жилище Игнатьича. Там же хранилось их оружие (автоматы), стоял шкаф с посудой, топчан, умывальник, а на противоположной стене висели вещевые мешки, противогазы и котелки.
Борис сбросил пилотку на стол и направился в комнату Игнатьича, чтобы помыть руки. Проходя через свою «спальню», он увидел, что на его постели лежит Шуйская с одеялом, натянутым до самого подбородка. Глаза её были закрыты, по-видимому, она крепко спала.
Борис невольно остановился, а Джек, сопровождавший его, подошёл к постели, положил на неё голову и умильно посмотрел на лежавшую девушку. Алёшкин уже хотел было заговорить со своей невольной гостьей, но в этот момент во вторую дверь протиснулся Игнатьич с котелками и чайником в руках. Заметив, что командир собирается громко говорить, он сделал предостерегающий жест, поставил котелки с едой на свой столик и, прижав палец к губам, поманил Бориса к себе.
Когда они перешли в третье отделение домика, служившее, кроме жилья Игнатьичу, хозяйственным складом и кухней, тот полушёпотом сказал:
– Зинаида Николаевна приказала её не будить, с ней не разговаривать и ни о чём не спрашивать. Покушайте, да ложитесь на мою постель, отдыхайте, а я к санитарам пойду.
После обеда, который одновременно являлся и ужином, Борис, выпив кружку крепкого горячего сладкого чая, почувствовал себя достаточно отдохнувшим и решил пройти по батальону, осмотреть все отделения и выяснить у своих помощников общую обстановку. Конечно, прежде всего он заглянул в большую операционную, где в это время вновь работали Бегинсон и Дурков. В предоперационной ожидали очереди двое раненых, в шоковой лежало четверо. С одним, очень тяжёлым, как сказал Дурков, они в этот момент занимались. Здесь помощи Алёшкина не требовалось.
Потом он прошёл в госпитальные палатки, их было уже три, пришлось занять одну из звакопалаток. Эвакуация обработанных проходила равномерно и быстро, а количество отяжелевших после хирургических вмешательств росло. В одной из палаток он увидел Прокофьеву, она, доложив ему об общем состоянии дел в госпитальном взводе, сказала, что на койках лежит уже более ста человек, пришлось для ухода за ранеными мобилизовать людей из ансамбля песни и пляски, которые пока всё ещё находились в батальоне. Руководитель ансамбля собирался увезти артистов в политотдел дивизии, но при помощи комиссара Кузьмина удалось пока их задержать.
– Кстати, о Кузьмине. Он совсем плох, – заметила она, – сердце у него барахлит, а он не хочет соблюдать никакого режима, да и лекарства принимает очень нерегулярно. Поговорите с ним! Может быть, вы на него подействуете. Припугните его, что, если он не будет мне подчиняться, так его придётся эвакуировать в госпиталь. А по всему видно, он этого очень не хочет. Да и медсанбату невыгодно такого комиссара лишиться. По-моему, он один из самых лучших, которые у нас были. Да, – немного насмешливо продолжала Зинаида Николаевна, – вот другой мой пациент прямо-таки рвётся в эвакуацию, хотя при осмотре я у него никаких повреждений, кроме небольших царапин на левом локте, не нашла, и со стороны внутренних органов тоже всё в порядке. Ну, немного слух ослаблен, да и то, по-моему, он больше аггравирует (преувеличивает серьёзность своего заболевания – Прим. ред.), перепугался до последней степени. Я его отправила в эвакопалатку. Думаю, вы жалеть не будете – это наш новый интендант.
Борис кивнул головой и спросил:
– А что с Катей Шуйской?
– А, с вашей квартиранткой-то? Придётся, товарищ командир, потерпеть её присутствие ещё пару дней. Елизавета Васильевна хотела её в сестринский барак перетащить, да я отсоветовала, пусть уж она пока у вас полежит. Я думаю, что через сутки она и сама уйдёт, а сейчас ей покой нужен. Испугалась она сильно, да и взрывная волна её, видно, о стенку барака ударила. Я думала, что здесь сотрясение мозга, потому что она довольно долго не могла прийти в себя. Часа полтора тому назад я её видела: спит спокойно, я ей порядочно морфия велела вкатить. Сейчас для неё самое главное – сон. Серьёзных ушибов тела нет, повреждений костей тоже, несколько синяков – наверно, всё-таки её брёвнами-то ушибло. Хорошо, что она то ли сознательно, то ли от удара волной упала и скорчилась, ведь висевшая почти над самой её головой гимнастёрка вся изрешечена осколками. Она на смену собиралась, пошла снять кое-какие свои вещи, сушившиеся в бараке, как раз и попала в налёт. Счастливо обошлось. Вот бойцы, которых с собой начхоз брал, все погибли. От одного вообще только куски собрали, раненый тоже умер, прямо у Соломона Вениаминовича на столе. Какое же счастье, что вы успели из этого домика переехать! А то бы мы сегодня с вами уже и не разговаривали…
После этих слов у Бориса невольно пробежали мурашки по спине. До сих пор ему как-то не приходило в голову, что, послушайся его Игнатьич, на месте этих пяти несчастных бойцов, могли быть они.
А Зинаида Николаевна между тем продолжала:
– Не знаю, как там на передовой, но нам стало хуже. Вы ведь были в операционной, там это не очень заметно, а мы здесь всё видим. Сегодня вокруг нас всё время летали немецкие бомбардировщики, бомбили почти беспрерывно и дороги, и артиллеристов, и ДОП, и, кажется, штаб дивизии. К счастью, в нас попали пока только один раз. А вот от осколков зенитных снарядов есть несколько раненых. Да в пути от нас одна из армейских эвакомашин пострадала, в ней погибло шесть раненых, ранен шофёр и медсестра, сопровождавшая эвакуируемых. Весь автобус изрешетили осколки и пули. К счастью, вскоре там пустые грузовики шли, так они всех живых подобрали. Сам автобус, кажется, так пока в кювете у дороги стоит. Пойдите к Скуратову, он вам подробнее расскажет. Ну, а ваш Игнатьич – интересный человек! Когда я сегодня пришла осмотреть Шуйскую, ещё светло было. Подхожу к домику, смотрю, из щели выглядывает голова Игнатьича. Увидев меня, он вылез, следом за ним выскочил и Джек. Они, оказывается, целый день в щели просидели. Я спросила: «Как же вы больную оставили?» А он говорит: «Так вы её трогать не велели, а то бы я и её в щель перенёс. А мы с Джеком решили, чем зря рисковать, лучше уж в щели посидеть, причём он первый туда забрался, мне пример показал». Я невольно рассмеялась его логике, а он продолжает: «Ведь это же не война, это же чёрт знает что такое, это сплошное смертоубийство! Летит, воет, как зверь какой (а немецкие бомбардировщики имели сирены, издававшие действительно отвратительный звук), и куда попало бомбы бросает!» Ну, Борис Яковлевич, я пошла, надо ещё десятка два человек осмотреть, а потом отдохнуть часа четыре. Вообще-то, тяжело, и не столько от работы, сколько от постоянного нервного напряжения, ведь мы-то, собственно, совсем беззащитны перед этими воздушными пиратами. Всех ходячих раненых, свободных от работы медиков и команду выздоравливающих Скуратов в щели загоняет, как только вблизи бомбардировщики покажутся, ну а наших куда? Ведь их просто на носилках поднять – и то вредно! Где же возьмём столько людей, чтоб их вынести, да и куда? Ведь у нас щели-то узенькие, маленькие, туда и носилки не влезут, а нам же от них, от раненых-то, уйти нельзя, вот и сидим, трясёмся при каждом разрыве, а виду стараемся не подавать. Ведь раненые и без того уже психически травмированные. Надо что-то придумывать!
Выйдя из госпитального взвода, Борис задумался над словами Зинаиды Николаевны. «В самом деле, что-то делать надо, но что… Землянок здесь не отроешь, это не Карельский перешеек, да и не спасёт землянка от прямого попадания бомбы. А у немцев воздушных сил здесь опять прибавилось. Хорошо, что они только днём летают, как по расписанию,» – думал Алёшкин, направляясь в штаб батальона.
В небольшой бревенчатой избушке, наполовину врытой в землю, из-за чего под досками пола постоянно хлюпала вода, кроме Скуратова, сидели два писаря. Увидев входящего комбата, они встали и, попросив разрешения, вышли.
Алёшкин остался с начальником штаба один на один. Тот в это время стоял около довольно большой ученической географической карты, изображавшей Советский Союз, и передвигал по ней «линию фронта». Так называлась толстая чёрная нитка, натянутая на булавках, расположенных на расстоянии три-пять сантиметров одна от другой.
Борис посмотрел на эту противную чёрную линию. Крошечный её участок, который соответствовал Волховскому фронту, уже довольно давно был неподвижен. Также застыли булавки в изгибах фронта северо-западнее Москвы. А вот зато на юге, видимо, происходило что-то необычайное.
За эти три недели, проведённые в тяжелейшей, напряжённейшей работе, Борис не успевал читать центральных газет, поступавших с большим опозданием, не читал и сводок Информбюро, ежедневно доставлявшихся из политотдела дивизии. Он был слишком занят бурными событиями, происходившими рядом с ним, где от него требовались не только знания, ум и сообразительность, но и напряжение всех физических и духовных сил. Так что, если выпадали минуты-часы отдыха, он сразу же проваливался в глубокий сон, а проснувшись, снова вынужден был кипеть в котле окружавших его событий.
Он, конечно, слышал об успешном начале нового наступления немцев где-то к югу от Москвы, но представить себе масштабы сумел лишь в те минуты, когда увидел, куда переместилась эта проклятая чёрная нитка.
Разглядывая то, что изобразил этой ниткой на карте Скуратов, Борис невольно спросил:
– Неужели они сумели так далеко пройти? А как же приказ № 227?
Скуратов ответил:
– Одним приказом их не остановишь. Тут что-то повесомее надо, чего, наверно, ещё нет.
Алёшкин ещё раз прочел в лежавшей на столе сводке, какие пункты оставлены Красной армией в течение последних дней, и с ужасом убедился, что на сегодня, на 20 августа 1942 года, на юге линия фронта проходит по восточному берегу реки Дон, около станицы Вешенской, городов Серафимович и Калач-на-Дону. На Северном Кавказе в руках фашистов оказались такие города, как Краснодар, Майкоп. Враг находился около Моздока, Новороссийска. Под угрозой захвата оказалась и Кабардино-Балкарская ССР. «Так ведь это же завтра, а может быть, уже сегодня фашисты будут в Александровке! – с ужасом понял Борис. – Что же будет с моей семьёй, что будет с Катей? Неужели они не успеют эвакуироваться? А как эвакуироваться, на что? Ведь у них и денег-то нет…» Он порывисто спросил Скуратова:
– Мне писем не было?
– Нет, товарищ командир, не было, – как-то виновато ответил тот.
Алёшкин закурил и снова обернулся к начальнику штаба:
– Неужели их не остановят? Неужели у нас уже нет сил?
– Остановят! – уверенно ответил Скуратов. – Обязательно остановят. И не только остановят, но и погонят назад, да ещё как погонят-то!
Борис посмотрел на посуровевшее лицо старого коммуниста (Скуратов был членом партии с 1918 года), и, невольно устыдившись своей слабости, уже более спокойным тоном сказал:
– Я в душе тоже в этом уверен, но уж больно тяжело сознавать, что фашисты так далеко забрались, что даже семья, живущая за тысячи километров от западных границ, находится под ударом. Наверно, ещё плохо мы умеем воевать, вот и здесь ничего не добились… Ну, да ладно. Я эти дни всё больше в операционной работал, расскажите, как у нас тут дела, ведь вы вчера в штабе дивизии были.
Алёшкин говорил «вчера», потому что пока он «отдыхал», прошло уже порядочно времени и перевалило за полночь.
Скуратов тоже закурил и уселся напротив Бориса:
– В штабе дивизии спокойно, нервничает только сам комдив – ждёт нагоняя за оставление занятого плацдарма. А на линии обороны, где сейчас находятся части дивизии, дело обстоит неплохо: все атаки немцев отбиты, сходу им погнать нас не удалось, теперь они, кажется, переходят опять к обороне. Вся их беда в том, что они не могут через Синявинские торфяные болота пустить танки. Попробовали было – утопили несколько машин и бросили эту затею. Ну, а без танков, вы знаете, немецкий солдат воевать не может. Вот теперь авиацию подкинули, говорят, целую воздушную армию сюда перевели. Каждый день бомбят передовую и нас, тыловиков. У нас зениток много, но вы ведь знаете, толку от них не очень чтобы, хотя кое-что и сбивают, а истребителей совсем мало. Рассказывают, да я и сам видел, наши лётчики прямо чудеса делают: втроём чуть ли не на двадцатку немецких самолётов бросаются, и те разлетаются, как стая вспугнутых ворон. Нашим от прикрытия «мессеров» достаётся, но, вообще-то, бомбёжка не так страшна, и потери от неё не очень значительны. Теперь от воя и свиста бомб не разбегаются, а быстренько прячутся в щели, убежища, норы. Вот нашему медсанбату от этой бомбёжки, если попадём под прицельное бомбометание, действительно плохо придётся. Ведь они, сволочи, на красный крест внимания не обращают, а чуть ли не наоборот, стараются по нему бить. Вчера армейский автобус разбили и обстреляли с воздуха, а на нём во всю крышу красный крест был намалёван. Фашистский стервятник три раза заходил, старался бомбой в него попасть. Молодец шофёр – так лавировал, что ничего у фашиста не получалось. Только когда шофёра ранило, и машина остановилась, так тут уж раненые думали, что всем им там и будет конец, тем более что «юнкерс» снизился и уже, видимо, готовился окончательно расстрелять несчастную машину. Да тут, спасибо, откуда-то сбоку наш «ястребок» вывернул и прямо с ходу в этого «аса» целую очередь врезал. У того один мотор загорелся, он сразу развернулся и на втором моторе удирать начал, а у нашего то ли горючее, то ли боезапас кончился – не погнался за ним, а завернул к своему аэродрому за Войбокало. Я сам этот бой видел, как раз из штаба дивизии возвращался, мы с нашей машиной в кустах сидели километрах в двух. Сегодня шофёр дежурного автобуса доложил, что получен приказ вывозить от нас раненых только по ночам. Уж больно далеко вперёд вы забрались, сказали в эвакопункте, да я и сам так думаю, – добавил Скуратов. – Надо бы нам отсюда куда-нибудь назад километров на пять податься.







