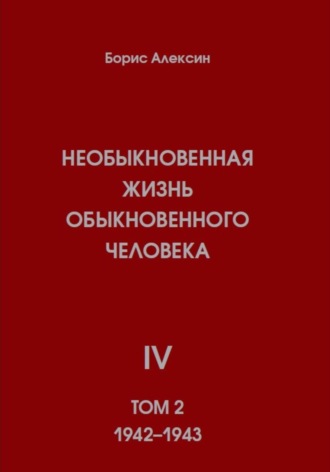
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 2
Глава пятая
На следующий день, приехав на новое место, Борис убедился, что развёртывание батальона идёт по намеченному плану. Переговорив с Прохоровым, он выяснил, что место для медсанбата выбрано достаточно удачно, но имеет один весьма существенный недостаток. Сосновый лес, который окружал палатки батальона, был молодым, сосенки невысокие и росли не очень густо. Кроме того, часть леса пришлось вырубить, чтобы расчистить место для палаток, хотя в основном для их размещения Прохоров и старался использовать естественные поляны.
Для постройки лежневой дороги пришлось вырубить тоже не одну сотню деревьев, так что, если теперь начать строить жильё для личного состава, то придётся вырубать чуть ли не весь этот участок. Возить лес издалека по бездорожью невозможно, разместить медперсонал в палатках тоже нельзя – палаток было мало, и даже при небольшом потоке раненых их использовали бы все. Поселить санбатовцев в шалашах или палатках, сооружённых из плащ-палаток, как это делалось в первые дни войны, – тоже не выход. Во-первых, потому, что приближалась зима, а во-вторых, потому, что, по всей видимости, санбату на этом новом месте, куда пока ещё не залетал ни один фашистский самолёт и не долетали немецкие мины, в условиях стойкой обороны придётся простоять не один месяц.
Теперь все уже хорошо знали: для того, чтобы медперсонал работал с полной отдачей сил и не выдохся бы в первые же дни напряжённой работы, ему следует создать возможно более благоприятные условия жизни.
Взвесив всё это, Алёшкин и Прохоров решили вслед за основными сооружениями батальона перевезти на новое место и домики, занимаемые работниками медсанбата на старом месте. Домики эти, построенные в своё время для штаба дивизии руками опытных плотников-сапёров, простояли уже более полугода. Их брёвнышки, хорошо подогнанные друг к другу, высохли и имели небольшой вес, а на холодное время могли создать приличное жильё. Если их правильно разобрать, а затем так же правильно собрать, то это значительно облегчит положение медсанбата. Вопрос только в том, кто будет руководить этой работой. Алёшкин, Прохоров и кто-либо другой из известных Борису лиц в строительных делах разбирались слабо. И тут Прохоров вспомнил:
– Есть такой человек! Мне его старшина Бодров нашёл, это сержант Павлов из выздоравливающих. Он на гражданке прорабом строительным был. Плотник и столяр он хороший, строительством лежнёвки тоже он руководил. Возьмите его, товарищ комбат. Поговорите с ним, он посоветует, как это всё сделать.
– А куда он ранен?
– В ногу, в бедро. Касательное ранение, рана уже почти совсем зажила.
– Ну вот, зажила… Значит, нам его в часть вернуть надо!
– Неужели мы не сумеем такого нужного человека хотя бы на две-три недели задержать? Похлопочите у комиссара, да и товарища Пронина попросите.
Убедившись в том, что на новом месте расположения медсанбата всё идёт как нужно, и определив места, где можно будет поставить перевезённые для жилья домики, а их было пятнадцать, Борис вместе с сержантом Павловым выехал в старое расположение батальона.
Павлов – высокий, представительный мужчина лет сорока – на предложение Алёшкина задержаться в батальоне для организации перевозки домиков ответил согласием. Как выяснилось, он был членом партии, очень знающим и опытным строителем, к тому же умелым организатором. Впоследствии Борис добился того, чтобы Павлова зачислили в штат медсанбата на должность одного из писарей.
Сержант попросил только, чтобы ему разрешили взять с собою для разборки и последующей сборки домиков сколоченную им бригаду плотников – четырёх человек (трое санитаров и один из выздоравливающих). Алёшкин охотно пошёл на это, и вот «санитарка», в которой сидели Борис, Павлов и его стройбригада, выскочив из леса, окружавшего расположение батальона, устремилась по основной дороге в сторону передовой, чтобы добраться до старого места. По этой дороге нужно было проехать километра четыре по совершенно открытому пространству. Алёшкин спешил с передислокацией и дожидаться ночи не стал. Они выехали около 12 часов дня.
Между тем фашистские войска, то ли основательно измотавшись в прошедших боях и попытках выбить 65-ю дивизию со своих старых позиций, то ли вернув часть своих сил под Ленинград, прекратили какие-либо наступательные действия и, остановившись на краю Синявинских торфоразработок примерно в двух километрах западнее тех мест, которые они занимали ранее, основательно окопались, создав новую оборонительную линию. В эти дни активных боевых действий практически не велось, и количество поступавших в батальон раненых свелось до минимума.
Однако действия воздушных сил всё ещё продолжались. Немцы, получив солидное подкрепление авиацией, ежедневно совершали многочисленные налёты на все леса и болота, где по их предположениям, могла располагаться артиллерия и тыловые части Красной армии. Как правило, эти бомбёжки серьёзного ущерба не приносили. Они проводились вслепую, и лишь иногда то или иное подразделение терпело урон. Кроме того, действиям немецкой авиации мешали зенитчики, и, хотя и немногочисленные, но отчаянно храбрые, краснозвёздные истребители. Не один фашистский лётчик вместе со своим самолётом нашёл себе могилу в Синявинских болотах и окрестных лесах.
Конечно, фашистские лётчики держали под своим неослабным вниманием основную дорогу, связывающую армейские тылы с передовой, и нападали не только на колонну воинской части, но даже и на отдельную машину, появившуюся на этой дороге. Делали они своё дело с немецкой аккуратностью: начинали вылеты с восьми часов утра, затем перерыв с двух до четырёх (как говорил Игнатьич, на обед), а после летали до темноты.
Не оставили они в покое и одинокую санитарную машину, ехавшую на предельной скорости к передовой. Не заметили только, откуда она вдруг вынырнула на дорогу. Но как только машина была обнаружена, один из «юнкерсов» отделился от группы, бомбившей участок леса левее дороги, и погнался за ней.
Борис, высунувшись из окна кабины, всё время наблюдал за небом. Он вовремя заметил манёвр немецкого самолёта, и только тот пошёл на снижение вдоль дороги, Алёшкин скомандовал шофёру свернуть в лес, а всем ехавшим в машине выскочить из неё, отбежать под густые деревья и залечь. К счастью, здесь оказалась просёлочная дорога. Впрочем, кое-кто, услышав вой сирены «юнкерса», уже начал это делать и без его приказания. Едва «санитарка» успела скрыться в чаще, как на дороге, почти в том месте, где она только что была, разорвалась бомба, затем впереди ещё две и затрещала очередь крупнокалиберного авиационного пулемёта, прострочившая дорогу и придорожные кусты. Но это уже было довольно далеко от того места, где находился Борис и его товарищи.
Потеряв из виду машину, фашистский лётчик развернулся и, сбросив несколько бомб на придорожный участок леса, вновь направился вдоль дороги, рассудив, что «санитарка», спешащая на передовую, не будет долго отсиживаться в лесу, и если она уцелела, то скоро вынырнет опять на дорогу. Летчик её увидит и, может быть, в этот раз окажется удачливее. Так бы и произошло.
После того, как самолёт, отбомбив дорогу и часть леса рядом, полетел на восток, чтобы развернувшись, искать потерянную машину, Борис и сопровождавшие его люди снова погрузились и, объезжая старые и свежие воронки, помчались вперёд. До поворота в лес к старому расположению медсанбата оставалось около километра, когда их снова заметил фашист. Сворачивать было некуда, и «санитарка» со своими пассажирами оказалась бы беззащитной, если бы фашистскому стервятнику не пришлось думать о спасении собственной шкуры. Пока он совершал свой манёвр, преследуя санитарную автомашину, со стороны Войбокало показалась тройка истребителей, направлявшихся к карусели бомбардировщиков, бомбивших какой-то объект около передовой. Сравнительно быстро они заметили летевший отдельно над дорогой немецкий самолёт. Один из «ястребков» круто изменил курс и зашёл в хвост бомбардировщика. Первая же очередь заставила фашиста забыть о санитарной машине и принять все меры для собственного спасения.
Борис заметил появление истребителя, а его стрельбу услыхали и все остальные. Вместо того, чтобы скорее продолжать свой путь, машину остановили, и все с любопытством стали смотреть на происходивший почти над их головами воздушный бой. Собственно, настоящим боем назвать это было нельзя: истребитель, хотя и намного меньше по размерам, чем немецкий бомбардировщик, обладал гораздо большей манёвренностью и скоростью, и поэтому враг, огрызаясь пулемётными очередями, торопился как можно скорее уйти под прикрытие своих зенитных батарей. Однако безнаказанно ему это сделать не удалось. Одной из своих очередей истребитель сумел поджечь фашиста, и тот, выпуская клубы чёрного дыма и жалобно воя подбитым мотором, быстро снижаясь, скрылся где-то за зубчатой стеной леса на западе.
Истребитель, сделав своё дело, отправился к товарищам, которые уже успели нарушить ровный строй кружащихся бомбардировщиков и вступили в бой с вывалившейся из облаков группой прикрытия «мессершмиттов». Окончание этого боя ни Борис, ни его товарищи не видели. Когда истребитель подбил нападавшего на них фашиста, они поехали своей дорогой и к двум часам дня прибыли на место.
Помощь Павлова оказалась прямо-таки неоценимой. Под его руководством бригада плотников аккуратно разобрала намеченные к перевозке домики, перенумеровала все брёвнышки, окна и двери. Павлов заверил, что на сборку каждого домика потребуется не более двух-трёх часов, а, следовательно, дня через три весь персонал батальона будет обеспечен жильём.
Алёшкин решил оставаться на старом месте до самого конца переезда санбата, и поэтому его домик наметили разбирать последним, после того, как будет свёрнута последняя госпитальная палатка и вывезены все раненые. К тому времени, когда нужно было свёртывать эту палатку, в ней оставалось всего десять человек, которые, по мнению Алёшкина и врача из госпитального взвода, оставленного для их лечения, а также и хирурга Дуркова, были в состоянии перенести переезд до нового расположения батальона без особого ущерба для своего здоровья. Остальные, оставленные в начале передислокации санбата, частью были вывезены ранее, частью скончались, не выдержав тяжести полученных ранений.
Спустя три часа после отправки последней палатки и раненых, а вместе с ними Игнатьича, Джека и вещей комбата, Павлов со своей бригадой при деятельном участии самого Бориса разобрал его домик и погрузил на полуторку, на которой он вполне уместился, и все выехали на новое место. На старом остались только протоптанные дорожки и площадки из-под домиков и палаток, не заросшие травой, да огороженное колючей проволокой кладбище.
Между прочим, когда отправлялась вторая часть операционно-перевязочного взвода вместе с Катей Шуйской, Борис стоял в тени большой ели и наблюдал за погрузкой. Он, как было известно, оставался на старом месте до конца. Когда машины уже были совсем погружены и отправлявшиеся вместе с ними должны были, как всегда, помогая друг другу, забираться на верх груза, то от одной из машин отделилась маленькая фигурка и, крикнув:
– Подождите, я сейчас! – подбежала к Борису.
Конечно, это была Катя, уже давно его заметившая. Обхватив его шею руками и прильнув к нему всем телом, она несколько раз поцеловала его и прошептала:
– Милый, милый Боренька, приезжай скорей! Я буду беспокоиться!
Едва Борис успел ответить на её поцелуй, как она вырвалась и через минуту уже кричала:
– Девчата, помогите мне забраться к вам!
Наконец, 5 октября 1942 года медсанбат № 24 полностью занял своё новое место. Кажется, в первый раз за всё время существования батальона передислокация происходила не в спешке, не с постоянным ожиданием или даже сразу началом большого наплыва раненых, а в спокойной, можно сказать, нормальной обстановке.
Правда, каждый день (как заведённые, по выражению Игнатьича) над лесом и над дорогой, по которой следовали машины медсанбата, с утра до вечера кружились немецкие бомбардировщики, взрывались сбрасываемые ими бомбы, причём некоторые из них – в пределах старой территории батальона, на местах, уже освобождённых от палаток.
Хотя вражеских самолётов стало меньше (очевидно, основная масса их переместилась в другой район фронта), всё равно эти бомбёжки причинили кое-какой вред: была разбита одна санитарная машина, разрушены кухонные навесы, которые предполагалось использовать и на новом месте, легко ранило нескольких человек из рядового состава батальона.
Неприятности доставлял и периодически повторявшийся артиллерийский обстрел этого участка леса. На территории батальона ни один снаряд не разорвался, но их свист и разрывы в 200–300 метрах нервировали всех. Поэтому, когда, наконец, передислокация закончилась и батальон очутился на новом месте, все облегчённо вздохнули.
Новое месторасположение медсанбата находилось от прежнего всего в четырёх километрах и, следовательно, от передовой – в семи-восьми километрах. Значит, оно не могло считаться совершенно безопасным, так как было достижимо и для артиллерийских снарядов, и для бомбёжки с воздуха.
Оно располагалось в удалении от основного фронтового тракта, причем в районе, который немцы почему-то совершенно не бомбили и не обстреливали. Первое время Алёшкин, его помощники и начсандив Пронин даже не понимали, чем объяснить такое счастливое стечение обстоятельств. Забегая вперёд, мы скажем, что на этом месте медсанбат простоял, кажется, самый длительный период времени в течение войны, с 5 октября 1942 года по 15 июня 1943 года, то есть почти девять месяцев, и за всё это время ни разу не подвергался ни обстрелу, ни бомбёжке.
Это долго оставалось загадкой для всех. Лишь летом 1943 года, когда в районе 65-й стрелковой дивизии был сбит немецкий самолёт, и в руки начальника штаба дивизии полковника Юрченко попал планшет с картой местности, секрет объяснился. Начсандив Пронин, рассмотрев эту карту и сравнивая её с имевшейся у него, заметил, что на том месте, где сейчас располагался медсанбат, на немецкой карте было обозначено сплошное непроходимое болото.
Таким образом, сравнительно благополучной жизнью 24-й медсанбат почти в течение года был обязан неточности немецких топографических карт. Но повторяем, всё это выяснилось значительно позднее, пока же санбатовцы, и прежде всего командир батальона, беспокоясь, чтобы не открылось их новое местонахождение, самым старательным образом маскировали всё, что можно было замаскировать.
В один из последних дней пребывания батальона на старом месте к Алёшкину приезжал комиссар дивизии Марченко. Он подтвердил слухи о том, что командира дивизии Володина убирают из дивизии и переводят куда-то на юг. Сообщил даже фамилию предполагаемого нового командира дивизии, по его словам, это был полковник Ушинский Борис Иванович – тот самый, который работал в своё время в комиссии по подготовке нового Полевого устава РККА. Комиссар сказал, что теоретически этот новый командир – очень грамотный военный специалист, но он до сих пор ещё не воевал, с ним будет трудно и, наверно, Марченко придётся из дивизии уйти.
Борису было жалко с ним расставаться. После своего довольно бурного знакомства под Невской Дубровкой у них сложились, не сказать, чтобы совсем дружеские, но, однако, всё же очень хорошие отношения.
«Каким-то будет новое начальство?» – невольно подумал Алёшкин. Но его в настоящий момент тревожило другое. Дело в том, что комиссар медсанбата Кузьмин, хотя и был хорошим человеком, знал своё дело, умело организовывал политработу в батальоне и старался как можно больше времени проводить среди раненых и личного состава батальона, всё чаще и чаще прихварывал, а в боевые дни, когда требовалось полное напряжение сил каждого медсанбатовца, с ещё большим напряжением должен был работать комиссар, особенно при таком командире, каким оказался Фёдоровский. Оно окончательно подорвало и без того плохое здоровье Кузьмина. Лечившая его, как и всех в батальоне, Прокофьева после переезда на новое место категорически запретила ему вставать с постели. Он этот режим нарушал, утяжеляя своё состояние, и фактически превратился в лежачего больного. Зинаида Николаевна говорила, что если Кузьмин и встанет, то работать в полевых условиях, в которых находился медсанбат, не сможет. А в теперешнем его положении он нуждался в длительном и серьёзном терапевтическом лечении, которое в условиях батальона обеспечить было невозможно.
Борис доложил об этом Марченко и попросил его как можно быстрее прислать замену комиссару. Тот даже обрадовался:
– Вот удачно-то! Хоть мне и жалко бедного Кузьмина, но такой больной, как он, для медсанбата действительно не годится. А у меня есть один в резерве. Правда, он просился в строевой батальон, ну, я думаю, что уговорю его пойти в медсанбат. Это капитан Фёдоров, он был ранен в грудь, почти год провалялся в госпиталях и с большим трудом добился возвращения на фронт, в свою старую дивизию. Кстати, и оперировали его в своё время в вашем медсанбате. Он уже около месяца находится при политотделе дивизии. Во время прошедших боев, как сверхштатный инструктор, он часто бывал на передовой и показал себя там как боевой, храбрый и толковый человек. Один раз он даже заменял раненого комбата 41-го стрелкового полка. Но всё-таки после ранения, которое он перенёс, держать его в строевой части нельзя, вот я тебе его и дам!
Борис немного замялся. «Опять мне больного человека дают. Какой же он мне будет помощник после ранения в грудь?» – подумал он. Комбат таких раненых много перевидал, многих прооперировал сам и хорошо знал, как выглядели те, которых удавалось вытянуть и эвакуировать для дальнейшего лечения в тыл.
Заметив не совсем довольное выражение лица Алёшкина, Марченко засмеялся:
– Да ты не сомневайся, я тебе не какого-нибудь инвалида подсовываю. Это, повторяю, боевой парень, и если я его уговорю, то к тебе пришлю как можно быстрее… Сам увидишь! Обеими руками уцепишься.
Через неделю, уже на новом месте, к Борису зашёл в его только что собранный домик молоденький, подтянутый, худенький политрук и, подавая направление, с мягкой и какой-то очень подкупающей улыбкой представился:
– Политрук Фёдоров прибыл для прохождения дальнейшей службы комиссаром медсанбата.
Он как-то сразу пришёлся Борису по сердцу. И в последующей их совместной службе они были самой дружной парой, отлично дополнявшей друг друга. Когда Борис выезжал куда-либо из батальона, он знал, что его заместитель Фёдоров, даже не имея медицинского образования, в состоянии заменить его вполне квалифицированно и с полным знанием дела.
Кстати сказать, ещё до прибытия Фёдорова, состояние здоровья Кузьмина настолько ухудшилось, что, по требованию Прокофьевой, он был срочно эвакуирован в один из госпиталей армии. Как потом стало известно, там он тоже не задержался и был отправлен в глубокий тыл. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Фёдоров настолько быстро освоился со своей ролью комиссара медсанбата, так быстро перезнакомился со всем личным составом, а со многими подружился, что через неделю казалось, что он всегда здесь служил. Если с уходом комиссара Кузьмина батальон не только ничего не потерял, но и, получив такую замену, как Фёдоров, только выиграл, то другая потеря оказалась гораздо более значительной и чувствительной.
В последнее время стал прихварывать Лев Давыдович Сангородский. Во время активных боёв, которые вела дивизия, он по своей работе в сортировке никем не заменялся, фактически всех прибывавших раненых сортировал сам. Спал он урывками в той же сортировочной палатке, когда получалось, часто даже, сидя за столом. Питался ещё более беспорядочно – когда и что придётся. Его помощница, пожилая женщина-фельдшер, очень опытный медработник Татьяна Николаевна Кожевникова в ряде случаев могла бы вполне его заменять. Так, между прочим, и предполагалось, но Сангородский был слишком беспокойным человеком, и за всё хватался сам. В этом отношении он не подчинялся никаким приказам со стороны командира медсанбата, даже тогда, когда им стал Алёшкин, которого Лев Давыдович уважал. Не слушался он советов и требований Зинаиды Николаевны Прокофьевой, а если и делал вид, что покоряется, всё равно, при первой же возможности, не доев кашу или суп, бросался к прибывшей машине с ранеными, командовал, распоряжался, бежал в операционную, торопил Бегинсона, Алёшкина или Картавцева, требовал срочной операции какому-нибудь раненому. А затем так и забывал доесть брошенный обед. Немудрено, что в его возрасте, а ему в июне 1942 года исполнилось 59 лет, он основательно подорвал здоровье.
Сразу же после передислокации на новое место он свалился. У него поднялась температура, и появились какие-то не совсем понятные боли в животе. Прокофьева, зная, что в своей сортировке, где он так всё время и жил в отгороженном углу палатки, Лев Давыдович не улежит, потребовала от Алёшкина немедленной эвакуации больного.
Как ни тяжело было Борису расставаться с опытным и общительным Львом Давыдовичем, с которым за время службы в батальоне его связали не только деловые, но и большие дружеские отношения, он понимал справедливость требований Прокофьевой. Отправившись вместе с ней к Сангородскому, после долгих пререканий и даже возмущённой ругани последнего, они всё же организовали ему эвакуацию.
Провожать машину с отъезжающими Кузьминым и Сангородским, которых эвакуировали одновременно, вышла чуть ли не половина медсанбата. Все, в том числе и Борис, считали, что с обоими расстаются навсегда. Они знали, что один из них, Кузьмин, не сможет вернуться по состоянию своего здоровья, а о другом, Сангородском, думали, что, если он и поправится, то кто же теперь, на втором году войны, которой, как было ясно, предстоит продлиться ещё не один год, пустит такого толкового и грамотного врача, каким был Лев Давыдович, обратно в какой-то медсанбат. По выздоровлении его, конечно, назначат куда-нибудь в большой тыловой госпиталь, где он сможет занять должность начальника любого отделения и даже вполне справится с работой заместителя начальника госпиталя по лечебной части. Как мы потом увидим, их предположения оказались ошибочными.
Таким образом, на новом месте дислокации медсанбат остался без командира сортировочного взвода, из врачей на эту должность назначить было некого. Пока поток раненых был незначительным, Алёшкин решил возложить руководство сортировкой на фельдшера Кожевникову, и, как в дальнейшем оказалось, переняв многое от Сангородского, она справлялась с этой работой успешно.
Но в медсанбате произошла ещё одна неприятность. Как только закончился переезд и были доставлены последние остатки имущества и домик командира, Алёшкин в ожидании, пока соберут его жильё, сидел в домике, где поселились женщины-врачи. Их осталось четверо, а домик в своё время рассчитывали на шестерых, поэтому в нём было довольно просторно. Прокофьева, смеясь, говорила, что они теперь могут принимать гостей.
Алёшкин, Зинаида Николаевна и хирург, подруга Ниночки (остальные врачи были на работе) обсуждали происшедшую передислокацию и отправку из батальона Кузьмина и Сангородского. Прокофьева сказала:
– Ну, кажется, боевая операция закончилась, и теперь всем будет немного легче. Будет легче и вам, Борис Яковлевич, что-то вид у вас больно неважный. Устали, наверно, сильно? Ведь целый месяц почти не спали, работали сверх сил! Надо поосторожней. Вы хоть и молоды ещё, но возможности у вашего организма тоже не беспредельны. А тут ещё эта недавняя контузия…
– Я и в самом деле чувствую себя что-то неважно, – заметит Борис, – вот как только поставят мой домик, а Игнатьич там приберётся, пойду, завалюсь и, наверно, целые сутки спать буду. Мне кажется, я словно год не спал, так бы сейчас и улёгся.
– Ложитесь на любую койку у нас, да и спите, – заявила Зинаида Николаевна. – Впрочем, нет, обождите, дайте-ка я вас сперва послушаю, померяю вам давление, а уж потом мы вас и уложим. Мы с Леночкой уйдём по лесу прогуляться и посмотреть окрестности. Нужно же ознакомиться с тем местом, где мы теперь обосновались… Ну, раздевайтесь же, раздевайтесь. Да не стесняйтесь вы! Рубашка, наверно, грязная? Что мы, грязного белья не видели! Быстро раздевайтесь, а то мы ведь и насильно вас разденем!
Борису не хотелось обследоваться, ему хотелось покоя. Очевидно, наступила какая-то реакция, да и вообще он не чувствовал себя серьёзно больным. Повышения температуры он не чувствовал, не было ни кашля, ни насморка. Единственное, болела голова, да всё вокруг видел он смутно, как бы через сетку. Раньше такого состояния у него не было, но он относил это на счёт переутомления, ведь он действительно почти месяц спал не более трёх-четырёх часов в сутки, а всё остальное время находился в большом нервном напряжении: сперва был занят эвакуацией раненых с передовой, а затем – многочисленными и достаточно серьёзными операциями, которых он за этот месяц сделал никак не менее двухсот.
Справиться с настойчивостью Прокофьевой ему не удалось, тем более, что и бельё его с тех пор, как над ним взяла добровольное шефство Шуйская, находилось всегда в хорошем состоянии. Конечно, была достаточно чистой и рубашка под довольно заношенной гимнастёркой.
Понимая, что от Зинаиды Николаевны не отделаешься, Борис начал раздеваться. Когда он, сняв снаряжение и гимнастёрку, стал стягивать нижнюю рубашку, Прокофьева, довольно ехидно, как ему показалось, заметила:
– Ну, ваш Игнатьич научился бельё-то стирать лучше любой прачки! Такого чистого белья из обменного фонда не получишь!
Борис понял, что намёк сделан не зря, и невольно покраснел. Хорошо, что как раз в этот момент снимаемая рубашка закрывала ему голову, и Зинаида Николаевна этого не заметила. Леночка, ещё до того, как Борис стал раздеваться, вышла из домика.
– Чтобы не смущать командира батальона, – сказала она.
Прокофьева внимательно выслушала и проперкутировала грудную клетку Бориса, затем измерила ему кровяное давление и после обследования помрачнела. Пока «пациент» одевался, она что-то записала на бумажке, а затем серьёзно сказала:
– Борис Яковлевич, вы взрослый человек, сами врач, и поэтому скажу вам откровенно. Дело обстоит хуже, чем я думала, вы мне не нравитесь. Не говоря о том, что у вас аритмия и систолический шум в сердце, указывающий на миокардит или миокардиодистрофию, что само по себе ничего хорошего не представляет, у вас сейчас давление 200 на 110. Вам надо немедленно лечь и принимать лекарства, которые я назначу. Кроме того, сейчас я пришлю Клаву, она вам сделает внутримышечную инъекцию магнезии. Придётся поколоть несколько дней и лежать не менее недели. Иначе дело обернётся плохо, и придётся вам отправиться вслед за Львом Давыдовичем и Кузьминым, а это для нашего медсанбата будет совсем нехорошо, да и вам, наверно, не понравится. Давайте-ка лучше полечимся здесь. Конечно, на время лечения придётся оставить курение. О том, как вас следует сейчас кормить, я расскажу Игнатьичу. Думаю, ваш домик уже готов, идите и немедленно ложитесь. И не вставайте, пока я не разрешу. Клаву я сейчас пришлю, лекарство из аптеки тоже, а сама зайду вечерком.
Рассказав о болезни комбата Игнатьичу и уложив больного, Зинаида Николаевна направилась к Сковороде, чтобы сообщить ему о том, что теперь временно бразды правления в медсанбате волей или неволей ему придётся взять в свои руки – нет ни командира, ни комиссара.
Упоминание Прокофьевой об аритмии и миокардиодистрофии Бориса не удивило, об этом он догадывался давно. Ведь заболевание началось ещё в 1926 году, после перенесённого брюшного тифа. Аритмия у него возникала почти всегда, когда приходилось переносить тяжёлое физическое или психическое напряжение. Правда, она быстро и проходила, но вот повышение кровяного давления его обеспокоило. Этого, при всех обследованиях, даже прошлогодних в госпитале, когда у него был выявлен туберкулезный очаг, не находили, раньше давление у него было нормальное. Кстати, Зинаида Николаевна сказала, что насколько она может судить, как будто в лёгких всё в порядке, хотя, конечно, следовало бы сделать рентгеноскопию. Так или иначе, Борис понял, что если не длительное лечение, то, во всяком случае, недельное пребывание в постели ему необходимо.
Домик комбата стараниями бригады плотников и Игнатьича был так аккуратно собран и оборудован в течение трёх часов, что производил впечатление стоявшего на этом месте уже не один месяц. Алёшкин этого не заметил. Шатаясь, как пьяный, он думал только об одном: лечь, как можно скорее лечь!
Когда он, сопровождаемый Игнатьичем и Джеком, вошёл, быстро разделся и улёгся в постель, сразу же почувствовал облегчение. Голова перестала кружиться, всё, что он видел вокруг, перестало покрываться мутной, противной сеткой, и он бы, вероятно, немедленно заснул, но пришла Клава.
Это была медсестра госпитального взвода, могучая Клава, обладавшая ростом, вероятно, более 180 сантиметров и соответствующим телосложением. Клава, которая, как младенца, поднимала и держала на руках любого, даже достаточно крупного раненого, пока санитары по её указке заменяли испачканное бельё или просто поправляли постель. Это была та Клава, которая иссушила сердца чуть ли не всех выздоравливающих, находившихся в медсанбате, пылавшая нежными чувствами к одному из самых невзрачных санитаров эвакоотделения, росточком не более полутора метров.
Завидя Клаву со шприцем в руке, Борис стал закатывать рукав рубахи, та засмеялась:
– Нет, товарищ комбат, рука мне не нужна! Поворачивайтесь-ка другим фасадом, я туда должна буду сделать укол.
Делать нечего, пришлось Борису повернуться набок и, спустив трусы, предоставить для болезненного укола то место, которое не очень-то часто называется в литературе по имени, но которое играет в жизни людей довольно значительную роль, и не только в качестве места для уколов.
Хотя Алёшкин и вздрогнул, но инъекцию перенёс достаточно стойко. Клава его похвалила:
– Вы молодец, товарищ комбат. Вот комиссар, так тот всегда стонал при уколе, хотя они были не такими болезненными, как этот. Сама-то я не пробовала, но говорят, что инъекция магнезии вызывает сильную боль. Я сегодня часов в семь вечера ещё раз приду.
Между тем Алёшкин уже не слышал последних слов Клавы, он почему-то сразу же заснул.
Вечером его навестила Прокофьева, вновь измерила давление и успокоила его, сказав, что оно начало снижаться. Затем ему пришлось выдержать второй укол Клавы, и он опять погрузился в сон. За всё это время Борис ничего не ел, лишь выпил несколько стаканов чая и принимал порошки, присланные из аптеки.







