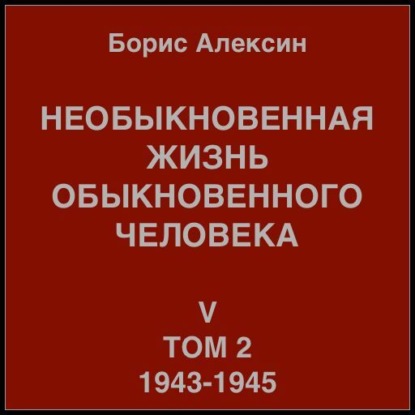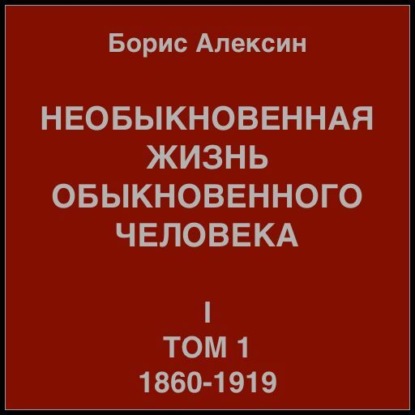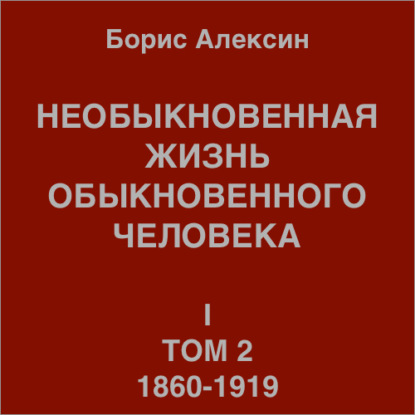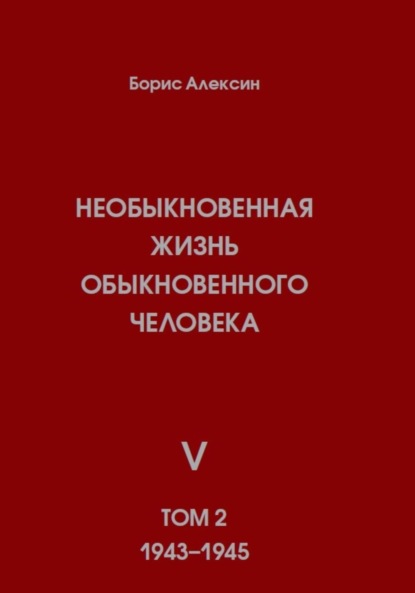
Полная версия:
Борис Яковлевич Алексин Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 5. Том 2
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Борис Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 5. Том 2
Часть вторая
Глава первая
Лето 1943 года выдалось хорошим. Погода стояла устойчивая, и на Северном Кавказе, где всё всегда растёт быстро, на огородах стали собирать обильный урожай овощей.
Почти сразу после ухода немцев вернувшиеся из партизанского отряда председатель сельсовета и председатель колхоза попытались посеять кукурузу, используя на семена уцелевшее зерно, хранившееся в сапетках (так назывались особые плетёные закрома на Крахмальном заводе).
При отступлении Красной армии сапёры, взрывавшие основной корпус завода, складов кукурузы почему-то не тронули. Впоследствии говорили, что уничтожению воспрепятствовал главный инженер Которов, по-видимому, намеревавшийся преподнести это зерно в подарок фашистам и тем завоевать их доверие. Мы знаем, что Которов, выбежав во двор навстречу входящим эсэсовцам, не успел сказать и слова. В доносах шпиона Сахарова главный инженер описывался как активный коммунист, поэтому он был застрелен без какого-либо допроса или следствия.
Фашистские войска не сумели никуда вывезти эти запасы кукурузы, не успели и испортить их перед своим стремительным отступлением, фактически бегством. Некоторая часть пошла на семена, остальное решили сберечь как сырьё для восстановления завода. Получив помощь из Орджоникидзе (Северная Осетия), колхоз смог посеять небольшое количество ячменя и пшеницы. Одним словом, через полгода после изгнания вражеских полчищ станица уже жила полнокровной жизнью. Оживал и Крахмальный завод: открылись два цеха – вареньеварочный и спиртовый. Использовали плоды и ягоды, собранные в садах и на посадках бывшего подсобного хозяйства завода, частично уцелевшие и давшие хороший урожай, часть ягод закупали и у населения. Из остатков крахмала делали патоку и гнали спирт.
Как-то так получилось, что Катя Алёшкина, или, как теперь её все уважительно называли, Екатерина Петровна, одновременно с выполнением обязанностей секретаря директора и начальника отдела кадров стала ответственной ещё за одно дело. На общем собрании рабочие завода потребовали, чтобы получение хлебных продуктов, а затем и их распределение по карточкам (с лета 1943 года появились хлебные карточки), также, как и раздача самих карточек, было возложено на Алёшкину. Некоторые рабочие во всеуслышание заявили, что честнее и добросовестнее Катерины в их коллективе нет. Вот и пришлось ей заняться, как и перед оккупацией, этой нелёгкой и хлопотливой работой.
Мы уже описывали, как трудно было с продовольствием до прихода немцев. Теперь, после страшной разрухи, произведённой оккупантами в районе, обеспечение продуктами ещё более осложнилось. Бедной женщине приходилось по нескольку раз в месяц пешком наведываться в Майское (18 километров) за получением карточек, нарядов на продовольствие, а затем и самими продуктами. Причём часто бывало так, что наряды на зерно выдавались в Майском, само зерно – в каком-нибудь колхозе, километров за десять в стороне, а молоть его нужно было на мельнице за станицей, и, наконец, возвращаться с мукой в Александровку, где уже вокруг будочки, сколоченной около проходной, толпились работницы и жёны рабочих. Мука выдавалась раз в месяц, но часто на оформление всех документов и раздачу у Алёшкиной уходило несколько дней подряд. Ведь надо помнить, что все путешествия Екатерина Петровна проделывала пешком, и только для перевозки зерна на мельницу и муки в Александровку ей удавалось выпросить подводу. Конечно, ни о каких грузчиках не могло быть и речи, и приходилось этой худенькой женщине таскать на своей спине огромные мешки. Вряд ли какая другая женщина сумела бы справиться с этой, скажем прямо, непосильной работой. И только то, что Катя с раннего детства в своём домашнем хозяйстве часто заменяла парня, беря на себя мужскую работу, помогало ей выполнять свои общественные обязанности.
Но очень скоро общественные дела превратились уже в служебные. Новый директор завода, сперва с недоверием встретивший требование рабочих о назначении Алёшкиной снабженцем, скоро увидел, что молодая женщина действительно очень добросовестно выполняет своё дело. Даже при крайне скудном обеспечении рабочих продовольствием недовольства с их стороны не было.
Катя Алёшкина и вправду привыкла любому труду отдаваться целиком, не щадить своих сил. Естественно, что при такой огромной загрузке на работе заботиться о детях в той мере, как ей бы хотелось, она не могла. Удавалось только выкраивать время в краткие часы отдыха, главным образом ночью, для ремонта их старенькой одежонки или приготовления незатейливой пищи. Основные заботы достались на долю старшей дочери Элы. Та безропотно выполняла роль хозяйки дома – стряпала, стирала, обмывала и кормила младших. Особенно трудно приходилось семье с весны 1944 года. Зоя, эвакуированная ленинградская девушка, которую Алёшкины приютили и которая в своё время оказывала посильную помощь в ведении домашнего хозяйства, после снятия блокады уехала домой, и теперь приходилось рассчитывать только на свои силы. А ведь нужно было ещё и о школе думать: Эла училась в седьмом классе, Нина – в первом. Шестилетняя Майя, пока старшие сёстры находились в школе, была полностью предоставлена самой себе, а точнее, улице. Она быстро подружилась с ребятами и девочками своего возраста и, не имея никакого присмотра, заботилась о себе сама. Это способствовало не только её ранней самостоятельности, смелости, но и хорошему физическому развитию. Майе ничего не стоило справиться и с девчонкой, и с мальчишкой, даже старшими по возрасту.
Весной 1944 года с Екатериной Алёшкиной произошло несчастье. После одного из своих дальних путешествий она простудилась и заболела воспалением лёгких. Произошло это так: после погрузки на мельнице полутора десятков мешков зерна, она, устав, прилегла на землю и, конечно, простыла. Почти неделю, несмотря на болезнь, Катерина продолжала работать, и только когда её в состоянии глубокого обморока подняли около ларька, отвезли домой, а врач поставила диагноз – пневмония, Катя согласилась на постельный режим. Нужно сказать, что в это время большую материальную поддержку и помощь по уходу за ней и детьми совершенно безвозмездно оказала её подруга Дуся Прянина, а также соседи Котовы, рабочие завода.
Так или иначе, вылежала Катя менее десяти дней и, вопреки возражениям врача, вновь приступила к выполнению своих нелёгких обязанностей. А обязанности всё расширялись: кроме муки, в её ларьке стала появляться соль, кое-какие другие продукты и даже промтовары. Помимо этого, директор завода решил использовать ларёк и для реализации своей продукции: там стало продаваться повидло, вино и спирт.
Всё это увеличивало объём работы и ответственность, Катя превратилась в продавца полноценного магазина. Если мы вспомним её предыдущую жизнь, то убедимся, что никогда раньше ей не приходилось заниматься торговлей, и теперь, впервые соприкоснувшись с розничной продажей товаров населению, она столкнулась с неприятностями и трудностями.
Несмотря на очень тяжёлое положение, в котором она находилась, после установления более или менее регулярной письменной связи с Борисом Катя не рассказывала ему ни о чём плохом, не жаловалась, а продолжала писать, что у них всё благополучно, все здоровы, ни в чём особенно не нуждаются, и лишь беспокоилась о его здоровье. Какой мужественной и храброй была эта женщина!
***Приближалась осень 1944 года. Жизнь в Александровке во всех отношениях входила в обычную колею, также обстояло дело и в семействе Алёшкиных. Но осень и будущая зима требовали от Кати новых забот, ведь с этого года все трое детей становились школьниками. Девочки выросли из своих одежонок, да и износили их. Нужно было думать о том, как и во что их одеть. Встал и второй вопрос: чем отапливаться зимой.
До войны топливом Алёшкиных снабжали завод и больница. Во время боёв, шедших вокруг станицы, а затем и в период оккупации, об отоплении как-то и не думали – жгли, что попадало под руку: плетни собственных огородов, заборы, разваленные сараюшки. Теперь всё это восстанавливалось вновь, а дров взять было неоткуда. Просьбу Алёшкиной о помощи в этом вопросе завод оставил без внимания. Обращаться в больницу было бесполезно, там и сами-то не знали, чем будут топить.
После того, как Эла услышала сетования матери на эту тему, она сказала:
– Мама, а почему бы не набрать валежника на том берегу Терека? Там его много. Я, когда купалась и переплывала на ту сторону, видела, собрать быстро можно будет.
– Что ты, дочка! Как его переправишь? Моста-то ещё через реку нет. Это пустая затея.
Пятнадцатилетняя Эла к этому времени как-то незаметно превратилась из нескладного, долгоногого подростка в стройную, хорошо развитую девушку. Конечно, излишняя худоба от постоянного недоедания да утомлённый вид от большой домашней работы, выпадавшей на её долю, немного портили Элу, но, тем не менее, одноклассники и другие парни в станице уже поглядывали в её сторону.
Достаточно самостоятельная девушка после разговора с матерью решила поступить по-своему. Хотя подходил к концу сентябрь, в Александровке стояла ясная и тёплая погода, да и вода в Тереке, по мнению Элы, была ещё не очень холодной. Она решилась.
В один из дней, когда мамы не было дома, отважная девушка переплыла на противоположный берег, набрала внушительную вязанку хвороста и валежника, связала её взятой из дома верёвкой и поплыла с ней обратно. Дело оказалось непростым: бурное, быстрое течение горной реки вырывало из рук Элы вязанку, и, хотя большую часть пути она брела по пояс и грудь, а плыть пришлось лишь полтора-два десятка метров, тем не менее, вытолкнув наконец свою добычу на берег, где её поджидали сестрёнки, девушка от усталости повалилась на влажную гальку.
Общими усилиями хворост перетаскали в огород и разложили для просушки за хлевом, позади избы. В этот день Эла смогла сделать ещё два рейса. Имея опыт, она уже не набирала больших вязанок; пока шла по дну, несла вязанку на плече, а когда плыла, старалась держать её на голове. Таким образом хворост не намокал, и течение вязанку не тянуло. Эту, прямо скажем, непосильную для юной девушки работу Эла выполняла в течение недели и сумела заготовить порядочно хвороста. На то, что было ею сделано, пожалуй, решился бы не каждый мужчина. Катерина, узнав о героическом поступке старшей дочери, хотя и побранила её за легкомыслие, однако в душе гордилась ей.
В вопросе отопления помог и сосед Котов, привезя арбу ободранных кукурузных початков. Как бы там ни было, но теперь зиму можно было встречать без боязни замёрзнуть, а основания для этого имелись. Мы ещё не описывали, что представляла собой та хата, в которой теперь жили Алёшкины.
Это была маленькая саманная хатёнка, состоявшая из двух половинок. Первая, с земляными полами, площадью около девяти квадратных метров, имела довольно большую печку-плиту, дымоход которой, проходя в стенке, отделявшей одну половину от другой, обогревал обе. В этой комнате-кухне было окно, около которого стоял небольшой, грубо сколоченный стол и три табуретки. У стены находилась небольшая лавка, на ней часто спала Майя. Дверь в противоположной от оконца, выходившего в огород, стене вела прямо на улицу. Над дверью крепился небольшой навес, настоящих сеней не было.
Вторая половина дома имела полы. В её стенах было три окна: два выходили на улицу, а одно во двор. У внутренней стены стояла старая расширенная железная кровать, вывезенная из старого дома, несколько венских стульев и узенькая кроватка под углом к большой. Здесь спали все члены семьи. Посредине этой комнаты стоял квадратный стол, принадлежавший прежним владельцам дома. За ним ужинали, когда вся семья собиралась вместе (чаще ели на кухне), а по вечерам дети делали уроки.
Электрического освещения в доме не было, и девочки для своих занятий пользовались маленькой лампой-коптилкой, при её же свете шила по ночам и Катя.
Почти вплотную к дому со стороны огорода был пристроен небольшой саманный хлев, крытый кукурузной соломой. В нём похрюкивала довольно большая свинья – главное материальное богатство семьи и её надежда на покрытие будущих расходов по экипировке девочек.
С этой свиньёй произошла такая история. После получения от Бориса первой значительной суммы денег в 1941 году, Катя сразу же приобрела хорошую свинку. В конце 1942 года она опоросилась, и ко времени прихода немцев по двору бродило несколько маленьких розовых поросят. Отступавшие части Красной армии ненадолго задержались в Александровке, разместившись постоем по домам. Командиры подразделений, жившие несколько дней у Алёшкиных, убедили Катю зарезать свинью, чтобы она не досталась немцам. Часть туши Катя отдала красноармейцам, оставшееся мясо и сало отнесла к Матрёне Васильевне в роддом. Его спрятали в погребе, и во время оккупации эти продукты оказали некоторое подспорье и семье Кати, и старушке-акушерке. Поросят решено было не трогать.
Первыми в станицу пришли румыны. Они, хотя и грабили население, но не с такой беспощадностью, как это делали немцы. Живя у Алёшкиных, поросят своей хозяйки они не тронули, несмотря на то, что она, устроившись на работу в роддом, бросая детей и хозяйство на произвол судьбы, поросят выпускала во двор, чтобы они сами искали себе пропитание.
Сменившие румын немцы гонялись за визжавшими поросятами по всему двору, ловили их, стреляли. Четверых съели, а одного, самого юркого и, по-видимому, самого хитрого, так и не нашли. Когда фашистов не стало, Катя, к своей великой радости, нашла в огороде между грядок чуть живого поросёнка. Она принесла его в дом, отогрела, накормила и, конечно, при переезде в новое жилище взяла с собой. Теперь, в 1944 году это был уже большой кабанчик, и Катя надеялась докормить его до нового года, чтобы, продав сало и мясо, обеспечить тёплой одеждой детей и себя. До сих пор она сама-то ходила в старом мужнином кожушке, который от ветхости расползался по всем швам. О том, как были одеты её дети, даже и говорить не стоит. Таким образом этот кабанчик был единственной надеждой семьи Алёшкиных. Но произошло несчастье, которое нарушило все Катины планы.
Мы уже упоминали, что постепенно она стала настоящим торговым работником, освобождённым от общественной нагрузки и остальных обязанностей. Катерину стали величать заведующей заводским торговым ларьком. Читатель помнит, что, кроме хлопотливого добывания и раздачи по карточкам муки, соли, растительного масла и некоторых других, получаемых в Майском райпотребсоюзе, товаров, по настоянию директора она занималась и реализацией части продукции завода, главным образом спирта и повидла.
Кстати сказать, уже в конце 1945 года выяснилось, что деньги, выручаемые Катей за эти товары и передаваемые главному бухгалтеру, не приходовались совсем или частично, а делились среди руководителей. Но в то время, о котором идёт речь, никто об этом не знал.
Однажды во время уборки в ларьке из рук Кати выскользнула пятикилограммовая гиря и, покатившись по полу, стукнулась о 25-литровую бутыль. Из большой дыры на пол хлынуло вино. Катя от ужаса вскрикнула и, как бы окаменев, несколько мгновений не могла двинуться с места. Когда она сообразила перевернуть бутыль на бок, большая часть вина уже вытекла. На крик Кати в ларёк вбежала находившаяся поблизости вахтёрша. Увидев огромную лужу вина и Катю, сидевшую на корточках около перевёрнутой набок бутыли, она не стала терять времени на расспросы, а, схватив стоявшее около двери ведро, принялась пригоршнями собирать с пола разлитое вино и сливать его в ведро.
Через полчаса всё, что можно было спасти, процедили через марлю и слили в другую бутыль. Потери оказались ощутимыми, не хватало более десяти литров вина. По тем временам это стоило очень много, и Кате ничего не оставалось делать, как зарезать своего кабанчика, продать мясо на базаре и этим покрыть недостачу. На оставшиеся деньги купили приличное платье для Элы. Остальные, в том числе и сама Катя, продолжали носить свою старую ветхую одежду.
Пришёл октябрь 1944 года, началась учёба в школе. Теперь все три дочери Алёшкиных стали школьницами. Эла училась в восьмом классе, Нина в третьем, Майя в первом. Их маме стало немного спокойнее и легче. У старшей дочки занятия были во вторую смену, и поэтому она могла успеть кое-что приготовить из еды. Младшие вечерами сидели дома, и Майя, раньше оставляемая на произвол судьбы, теперь была не одна.
Письма от Бориса приходили редко, хотя теперь уже и регулярно. «Наверно, он находится где-нибудь на спокойном участке фронта», – думала Катя. Волновало и раздражало её то, что несмотря на ласковые слова в его письмах, внутренний дух их был каким-то чужим. Всем сердцем любящей женщины она чувствовала, что, если Борька и не забыл её совсем (она была уверена, что он этого сделать не сможет), то сейчас он не один, около него есть какая-то другая женщина. От этих раздумий ей становилось обидно, и невольно Катины письма мужу оказывались более сухими и сдержанными. Она и раньше не могла бурно и ярко проявлять свои чувства к Борису, а под влиянием этих мыслей написанные ею тексты становились ещё бесстрастнее и прозаичнее. Жизнь её и детей, требовавших непрестанных забот, приносила свои радости и огорчения. Последних, впрочем, было гораздо больше, но об этом из её писем Борис узнать не мог.
***Мы уже рассказывали, что ещё в Краснодаре вся семья Алёшкиных переболела малярией. В предвоенные годы малярия свирепствовала на Кубани, в Краснодаре и по всему Северному Кавказу, а настоящих мер борьбы с этим заболеванием применять ещё не умели, да и материальных ресурсов не хватало. Тяжелее всех перенесли малярию Майя и Нина, и если взрослые к 1940 году практически были здоровы, то малыши стали страдать хронической формой (которую большинство медиков отвергает, но она всё-таки есть). По приезде в Александровку, где это заболевание оказалось одним из самых распространённых, у Майи и Нины вновь начались приступы болезни. Особенно ухудшилось их состояние после перенесённых волнений в период боёв, проходивших за станицу, и немецкой оккупации. Детишкам пришлось испытать длительное пребывание в сырых земляных щелях, прячась от осколков бомб и снарядов, пролетавших над станицей и взрывавшихся на её улицах. Сказалось и постоянное недоедание, а при немцах и почти полное голодание.
Майя ещё как-то справлялась с болезнью, а Нина, имея более слабое здоровье, ведь в младенчестве она перенесла несколько раз воспаление лёгких, от приступов малярии не могла избавиться очень долго. По возрасту осенью 1942 года ей предстояло идти в первый класс, но школа в это время не функционировала. Конечно, не начались в ней занятия и во время фашистской оккупации. Но зато после освобождения станицы вернувшиеся учителя решили немедленно приступить к обучению ребят. Основную часть школы разместили в одном из самых больших домов станицы – доме Алёшкиных. В полуразрушенном-полусгоревшем здании школы удалось приспособить для занятий только две комнаты, в них в две смены занимались пятый, шестой и седьмой классы. Остальные четыре класса учились непосредственно в квартире Алёшкиных. Конечно, выбросить их на улицу сельсовет не мог, но пока подыскивалось другое жильё, пока Катя при помощи друзей и соседа Котова приводила новый дом в относительный порядок, семья её вынуждена была ютиться в крохотной комнатке-веранде. Остальная часть квартиры была занята под классы.
С одной стороны, такое соседство казалось даже удобным. Во-первых, пятилетняя Майя, находясь в том же дворе, где бегали школьники, не убегала куда-нибудь на речку, а находилась как бы под присмотром. А во-вторых, и Нине, начавшей учиться в первом классе, не нужно было куда-то ходить, её класс был за стенкой. Это оказалось тем более удобным, что из-за приступов малярии она часто пропускала уроки, но могла, не вставая с постели, слышать объяснения учителя, читать то, что читали её товарищи по классу в одно время с ними, и, даже лёжа в кровати, кое-что писать карандашом.
Кстати, об этой писанине. Перед приходом оккупантов, точнее с началом боёв за Александровку, Катя все медицинские книги мужа, всю политическую литературу и почти все фотографии уложила в мешок, завернула в клеёнку, снятую со стола, и зарыла в огороде. Так делали многие, пряча главным образом дорогую одежду и другие ценные вещи. В семье Алёшкиных ничего ценного из одежды или каких-либо других предметов не было, Катя решила спрятать книги.
Само собой разумеется, что, как только оккупанты были изгнаны, она откопала своё «богатство», и всё было вытащено наружу. После нескольких месяцев в сырой земле, к счастью, следов порчи почти не оказалось. Папины книги и фотографии лежали стопкой в углу комнатёнки, и предприимчивые девочки решили их использовать.
Занятия в школе уже начались, а учебных пособий не было. Учителям удалось спасти лишь часть учебников, разобрав их по квартирам. Сохранился крошечный запас тетрадей, но в основном для письма все учащиеся, и тем более ученики первых классов, использовали бумагу, имевшуюся дома. Пошли в ход использованные тетрадки старших братьев и сестёр, газеты и книги. Во всех этих бумажных изделиях дети писали на чистых листах, полях, пустых строчках, а иногда и прямо по ним. Так начала свою учёбу и Нина Алёшкина.
Надо сказать, что несмотря на все эти трудности, она училась на четвёрки и пятёрки, отличалась хорошей памятью, сообразительностью, аккуратностью и прилежанием. К началу 1944/1945 учебного года Нина, ученица третьего класса, считалась одной из лучших. Не на плохом счету была и восьмиклассница Эла. Ей время от времени приходилось заменять хозяйку дома, так как мама часто бывала в отъезде.
Мы уже упоминали, что Екатерина Петровна имела ещё довоенную связь с райотделом НКВД как работник спецотдела, и с её помощью был разоблачён не один преступник. После освобождения Александровки, Майского, Нальчика, других городов и посёлков Северного Кавказа взаимодействие её с органами НКВД не уменьшилось, а, пожалуй, даже укрепилось, хотя она уже и не работала в спецотделе.
Зная почти всех жителей станицы, так или иначе сотрудничавших с немцами и убежавших с приближением частей Красной армии, Алёшкина могла оказать большую помощь с выявлением тех, которые, не сумев скрыться далеко, брошенные своими «хозяевами», возвращались обратно, прятались в горах или у дальних родственников и добывали себе средства к существованию откровенным разбоем и грабежом. Кате Алёшкиной поручали узнать о местонахождении этих бандитов, для чего ей иногда приходилось покидать станицу. Вся забота о младших девочках тогда ложилась на Элу. И хотя теперь семья Алёшкиных жила уже в «собственном» доме, имела кое-какое хозяйство и даже небольшие запасы самых необходимых продуктов, хлопот с младшими сестрёнками у Элы было немало. Особенно доставалось ей от младшей, Майи.
Всё своё раннее детство, в силу сложившихся обстоятельств, Майя была предоставлена самой себе. Поэтому до семи лет она росла как молодой свободолюбивый зверёк. С одной стороны, уличное воспитание было и благотворным: она выросла бойкой и сильной для своего возраста девчонкой, не боявшейся вступить в драку с любым мальчишкой, и могла даже выйти победителем. Её не пугали собаки, коровы и любые другие животные. В семь лет ей не служили препятствием плетни, заборы, деревья и даже такие речки, как Лезгинка. Но, с другой стороны, это «воспитание» приносило и немало трудностей: она не признавала ни дисциплины, ни авторитетов, тем более авторитета старшей сестры. Конечно, с таким характером ей пришлось очень трудно в школе с первых же дней.
К тому времени, то есть осенью 1944 года, в школе имелись уже и учебники, и необходимые тетради, а родители шили детям холщовые сумки или добывали дерматиновые портфели. У Майи имелась сумка, доставшаяся ей по наследству от Нины, которая уже носила дерматиновый потрёпанный портфель, приобретённый Екатериной Петровной где-то по случаю на Майском базаре.
Кажется, недели через две после начала занятий в школе во время урока Майя собрала в свою сумку все учебники и тетради, встала из-за парты и направилась к двери. Учительница заметила это:
– Ты, Майя, куда?
– На двор, там меня мальчишки ждут, вон, в окно кричат.
– Так ведь занятия ещё не кончились!
– А мне уже надоело, – невозмутимо ответила взбалмошная девчонка и продолжала идти к выходу.
– Сядь сейчас же на место! Вот я твоей маме скажу, глупая девчонка, – вспылила учительница.
Это только подлило масла в огонь.
– Не сяду, сама ты глупая, – и Майя уже бегом бросилась к двери.
Догнавшей и схватившей её учительнице она, злобно сверкнув глазёнками, крикнула:
– Пусти, а то укушу! – и, вырвавшись, убежала из класса.
Майя была заводилой большинства классных шалостей, и её матери нередко приходилось выслушивать от учителей жалобы на поведение младшей дочери.
Для иллюстрации расскажем ещё об одном случае, правда, произошедшем уже в начале 1945 года. Майя, как и Нина, начала учиться раньше положенного возраста. Обе они пошли в школу с семи лет при том, что обязательным возрастом для первого класса считались полные восемь лет. Тем не менее Майя, как и Нина, со школьными занятиями справлялась. Она не была в числе первых учеников, как Нина, но во всяком случае, и не среди отстающих. Если бы у неё было побольше усидчивости и старания, девочка могла бы по своим способностям и отличницей стать. Но вернёмся к случаю, заставившему Алёшкину взять на время Майю из школы.