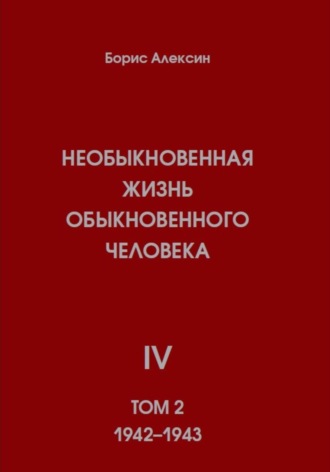
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 2
Прочитав это письмо, Борис ушёл от палатки, уселся под огромной сосной, закурил, поискал обратный адрес, которого на конверте не было, и глубоко задумался. Почему Тая ему не сказала о своей беременности? Почему не хочет видеться с ним? А может быть, это его сын? Хотя по времени не выходит. Может, она пишет неправду?
Долго ещё сидел он под этой сосной, долго думал о семье, о Тае и, наконец, о себе. Какой же он всё-таки безалаберный и легкомысленный человек! Как он мог так просто, чуть ли не сразу по отъезде из дома, сойтись с другой женщиной и, значит, вновь изменить своей Кате? А ведь он при этом не переставал любить её, своей женой считал только её, а Тая… Это было что-то такое временное, проходящее, и хотя встреча с ней и оставила след в его жизни, но он понимал, что не сможет встретиться с ней снова, да и не захочет.
Пользуясь нашим авторским правом, забежим вперёд и скажем, что в течение всей своей последующей жизни Алёшкин ни Таи, ни её ребёнка не видел никогда.
Утром следующего дня Борис уехал в штаб дивизии, в этот же день выехал из рабочего посёлка и медсанбат № 24. К вечеру на бывшее место расположения медсанбата был совершён массированный артиллерийский налёт, сопровождавшийся бомбардировкой с воздуха. В результате оба барака оказались полностью уничтожены, а вся территория поляны покрылась огромными воронками.
Глава шестая
Прошёл месяц. 1 июня 1942 года на совещании в штабе дивизии комдив объявил, что в ближайшие дни по решению штаба армии 65-я стрелковая дивизия отводится во второй эшелон армии. Новое соединение, которое её должно заменить, уже находится на станции Войбокало, и завтра вечером часть его своим ходом начнёт прибывать в расположение полков. Комдив потребовал, чтобы смена передовых частей произошла как можно организованнее, причём так, чтобы противник этого не заметил. Всем командирам полков и отдельных спецподразделений он указал на карте место последующей дислокации.
Обратившись к Алёшкину, он сказал, что месторасположение медсанбата он предоставляет ему выбрать самому с таким расчётом, чтобы оно находилось в возможной близости от размещения полков.
После совещания комиссар дивизии Марченко, к которому Алёшкин зашёл, уточнил:
– Борис Яковлевич, место для санбата поедем подберём вместе. Ведь надо учесть, что во время пребывания в резерве мы будем получать большое пополнение. Военный совет армии заявил, что нашу дивизию за это время, а продлится это месяц или полтора, укомплектуют до полной штатной положенности. Новых людей надо будет медикам обследовать и провести их санитарную обработку, так что врачам полков, да и тебе, работы хватит. Поскольку вам с командиром медсанбата теперь придётся работать в большом контакте, тебе лучше вновь переселиться в батальон, с комдивом я уже договорился.
Борис был доволен таким положением. Он понимал, что теперь, когда дивизия будет в резерве, он сможет дольше находиться на месте, то есть в медсанбате, и, следовательно, время от времени заниматься любимым делом – лечебной работой. Правда, притока раненых быть не должно, они могут быть только случайными, от бомбёжек. Хотя последнее время немцы что-то значительно реже стали совершать налёты авиации на второй эшелон армии. Они больше тревожили артобстрелом дивизионные тылы, но тоже не так часто, как это было в начале войны.
Нужно сказать, что дивизии, в том числе и медсанбату, вообще, что касается бомбёжки с воздуха, до сих пор везло: на Карельском фронте самолётов у фашистов почти совсем не было; стоя около Невской Дубровки (зимой 1941–1942 года), бомбовые удары фашисты наносили по Ленинграду; здесь же, на Волховском фронте, бомбили в основном железнодорожные станции. Только в последние дни разбомбили старую стоянку батальона, но там уже никого не было. Так что пока команда «воздух!» для большинства личного состава батальона была чисто символической. Первая бомбёжка под Москвой и вторая под Гатчиной из памяти почти стёрлись.
На следующий день комиссар дивизии и начсандив Алёшкин отправились подыскивать место для медсанбата. Его нашли в трёх километрах от станции Жихарево, в большом сосновом лесу, на месте штаба какого-то соединения, стоявшего там в период осенне-зимнего наступления 2-й ударной армии. Это место было удобно потому, что там сохранились кое-какие, правда, полуразрушенные, землянки, несколько маленьких бревенчатых домиков и хорошие подъездные пути.
Вопрос несколько осложнился тем, что начальник 31-го полкового госпиталя, находившегося в пятистах метрах, военврач второго ранга Несмеянов выступил против размещения медсанбата на выбранном месте, утверждая, что такое близкое соседство двух учреждений и, следовательно, увеличение автодвижения, может привлечь авиаудары немцев. Борис поехал к начсанарму и добился от него согласия на размещение медсанбата на намеченном месте.
Для себя Борис выбрал почти целый, маленький, рубленный из тонких брёвнышек домик, размером три на три метра, находившийся в стороне от основного расположения батальона. На следующий же день после рекогносцировки он привёз в этот домик своего помощника Вензу с вещами и Джека. Одновременно прибыли сюда командир медроты Сковорода со старшиной Бодровым и тридцатью бойцами (санитарами и выздоравливающими), которые должны были в течение недели подготовить площадки для палаток и отремонтировать землянки и домики.
Переезд всего медсанбата, как и передислокация штаба дивизии, происходили в течение первой половины июня в отсутствии Алёшкина. Дело в том, что на 5 июня 1942 года сануправление фронта созывало совещание начальников медико-санитарных служб, начальников госпиталей, командиров медсанбатов, медсанрот и ведущих специалистов лечебных учреждений. На этом совещании от 65-й дивизии должен был присутствовать и командир медсанбата Фёдоровский, но он, сославшись на плохое состояние здоровья, ехать отказался. После выяснилось, что отказ его от поездки был вызван нежеланием встречаться со своими прежними сослуживцами – начальниками госпиталей, которые таким образом узнали бы о полученном им наказании. Поэтому, кроме начсандива Алёшкина, поехал командир медроты Сковорода, командир операционного взвода Бегинсон, командир госпитального взвода Прокофьева и командир сортировочного взвода Сангородский.
Совещание проходило в одном из фронтовых эвакогоспиталей, расположенном в районе села Новая Ладога, на берегу реки Волхов, у самого устья реки, впадающей в Ладожское озеро. Госпиталь размещался в большом старинном помещичьем двухэтажном здании, где после революции находился какой-то дом отдыха. Здание было, хотя и старое, но хорошо сохранившееся и почему-то совсем не тронутое войной. Фашистские войска в это село не заходили, их осеннее наступление преследовало цель скорейшего захвата Тихвина (чтобы окончательно двойным кольцом отрезать Ленинград и прилегающие к нему местности от остальной территории СССР). Село Новая Ладога попадало внутрь кольца, и, прорываясь вперёд довольно узким клином, немцы на него внимания не обращали, не обстреливали его и не бомбили.
* * *
Санбатовцы, переправляясь на пароме через реку Волхов (все мосты были уничтожены и пока ещё не восстановлены), увидели совершенно нетронутое северное село с большим количеством населения, мирно занимавшегося своим трудом. Люди копались на огородах и в небольших садах. Проехав через село по грязной и разъезженной дороге, они очутились перед большим старинным домом оригинальной постройки с верандами и балкончиками. На одном углу его возвышалась четырёхэтажная башенка, а вокруг стояла красивая металлическая ограда. Не менее, чем наружная часть, поразила Бориса и остальных прибывших с ним врачей и внутренняя часть здания.
Прежде, чем попасть в зал заседания, находившийся на противоположной от основного входа стороне здания, им пришлось раздеться в настоящей раздевалке, получить номерки на свою довольно-таки замызганную одежду, облачиться в белоснежные халаты и пройти длинным коридором мимо двух десятков дверей палат. В приоткрытых палатах виднелись настоящие никелированные кровати, тумбочки и всё оборудование, которое обычно бывает в хороших больницах.
За год своего пребывания в медсанбате, укладывая раненых на землю, на носилки, поставленные на козлах, а в последнее время – на грубо сколоченные вагонки, в холодных и сырых палатках или полуразрушенных бараках, врачи как-то забыли, что для медицинской работы может быть создано такое, чуть ли не сказочное великолепие. Переглядываясь между собой, они шли к залу заседаний и невольно завидовали тому персоналу, который работает в этих условиях. Сангородский, конечно, не удержался и заметил:
– Ну и везёт же некоторым, а?
Все промолчали, но, вероятно, про себя каждый подумал то же самое.
На совещании начальник санитарного управления фронта дивизионный врач Песис сделал обзор о работе санитарной службы фронта за истекший период времени, затем выступало много начальников госпиталей, начальников санитарных служб дивизий и бригад и командиров медсанбатов. Выступал и Алёшкин, рассказавший о тех трудностях, которые пришлось испытать санитарной службе 65-й стрелковой дивизии.
На следующий день под руководством фронтового хирурга, а им оказался военврач первого ранга Александр Александрович Вишневский, различные врачи госпиталей делали сообщения о ходе лечебного процесса в медицинских учреждениях фронта. Александр Александрович узнал Бориса, ведь в 1940 году Борис проходил усовершенствование в Москве, в клинике его отца, Александра Васильевича Вишневского, и несколько раз ассистировал Александру Александровичу при операциях. Вишневский хотел, чтобы Алёшкин и приехавшие с ним врачи рассказали о работе их батальона.
Кроме Бориса, упомянувшего о том, что все операции, проведённые им во время работы в медсанбате, делались под местным обезболиванием по методу А. В. Вишневского, выступил и доктор Бегинсон, рассказавший об особенностях и преимуществах лапаротомии в первые часы после ранения в живот – лучше всего до тех пор, пока не появился шок. Зинаида Николаевна рассказала об особенностях лечения раненых, страдавших алиментарной дистрофией.
Два дня совещания прошли незаметно. Они были заполнены очень интересной работой.
В этом же зале в первый вечер работники госпиталя дали концерт художественной самодеятельности, а на второй день был концерт бригады ленинградских артистов во главе с К. И. Шульженко.
Алёшкин и остальные врачи медсанбата помнили её выступление в начале зимы 1942 года в батальоне, когда вся её труппа, одетая в солдатские ватники и валенки, выглядела измождённой и истощённой. Сейчас же Шульженко и все, кто выступал вместе с ней, имели роскошные концертные костюмы. Но дело было не в костюмах. Задушевное, удивительно соответствующее настроению всех присутствовавших пение Клавдии Ивановны покорило зрителей. Почти все песни ей пришлось исполнять дважды.
Само собой разумеется, что в зале, кроме участников совещания, персонала госпиталя, присутствовали все способные передвигаться раненые, находившиеся в это время на лечении.
Перед закрытием заседания один из работников сануправления фронта зачитал приказ начальника сануправления об объявлении благодарности и награждении некоторых работников санитарной службы. В числе их оказался и Борис Яковлевич Алёшкин. Награждались эти товарищи за хорошо проведённую противоэпидемическую работу в частях: своевременную санобработку, прививки и за то, что в их соединениях не было ни одного случая таких инфекционных заболеваний, как сыпной или брюшной тиф. Награждённых было десять, всем им дали пятидневный отпуск с пребыванием в доме отдыха, организованного на базе этого же госпиталя.
Таким образом, Борис, проводив своих друзей, остался в одной из палат, превращённой в комнату для отдыхающих. В первые же дни Борис, как и другие его товарищи, после хорошего мытья в ванной, одевшись в чистое новое бельё, ночного сна на пружинной койке, на мягком матраце, застланном белоснежной простынёй и одеялом в таком же белом пододеяльнике, почувствовал себя наверху блаженства. Но так было в первые 2–3 дня. Затем бесконечные прогулки, чтение книг и газет, слушание радио, которое вновь стало сообщать нерадостные сведения, всем им, в том числе и Алёшкину, показалось столь скучным и ненужным, что эти люди, привыкшие к ежедневному, чуть ли не круглосуточному труду, томились от безделья и не чаяли, когда окончится этот неожиданный отпуск.
Борис, как и некоторые другие, не дождавшись окончания отпуска, на четвёртый день уже ехал на попутной машине в свою родную дивизию.
* * *
Отвлечёмся на некоторое время от нашего героя и той маленькой, в масштабе войны, воинской части, в которой он служил, и коротко опишем те события, которые произошли на фронтах Великой Отечественной войны за этот период времени.
После победного сражения под Москвой, начавшегося ещё в середине декабря 1941 года, Красная армия ликвидировала непосредственную угрозу столице. Более того, уничтожая растерявшихся «непобедимых» фашистов, войска до начала апреля продолжили успешное наступление на Центральном участке фронта и к описываемому нами времени полностью очистили от врага Московскую, Калининскую, Калужскую и Тульскую области, освободив тысячи населённых пунктов и отбросив немецкие армии группы «Центр» на 250, а в некоторых местах – более чем на 300 километров на запад от столицы. Фашистские войска, закрепившись на этих участках фронта, перешли к обороне.
Как мы помним, ещё в декабре 1941 года Красная армия освободила город Тихвин и, оттеснив противника на запад, остановилась на линии: Ладожское озеро, Вороново, восточный берег озера Ильмень, расчистив почти всю железнодорожную линию, связывавшую Москву и Ленинград, за исключением небольшого участка протяжённостью около ста километров с узловой станцией Мга, который всё ещё оставался в руках противника.
С конца декабря 1941 года до 2 января 1942 года проходила Керченско-Феодосийская операция, но полного успеха она не имела, и Красная армия, потеряв значительные силы, к 14 мая 1942 года оставила город Керчь.
В мае 1942 года наша армия пыталась освободить город Харьков, но и эта операция не была успешной.
На фронте против Красной армии гитлеровцы сосредоточили огромное количество войск. В начале 1942 года на советско-германском фронте находилось 182 дивизии, в том числе 19 танковых, 15 моторизованных, и 25 бригад с общим числом 6 200 000 солдат, 43 тысячи орудий, 3 230 танков, 3 400 самолётов. До сих пор не был открыт второй фронт: США и Англия не начинали активных боевых действий против фашистской Германии в Европе.
Кроме того, советское правительство, зная, что Япония нацеливает на восточные границы СССР целую Квантунскую армию, вынуждено было держать значительные вооружённые силы на Дальнем Востоке.
И, наконец, стремительное массированное наступление фашистских войск летом 1941 года заставило срочно эвакуировать основную массу металлургических и оборонных заводов на восток, в районы Центральной и Западной Сибири и, следовательно, сократить на время выпуск необходимой военной техники.
Всё это не позволило советскому командованию развить достаточно сильно начавшееся в декабре 1941 года наступление Красной армии. А это дало возможность фашистам оправиться и к началу лета 1942 года предпринять новое наступление, на этот раз в юго-западном направлении. Его целью было перерезать Волгу, захватить Кавказ и Черноморское побережье и овладеть нефтяными районами Советского Союза. Разумеется, при этом отрезать Москву от остальных промышленных районов страны.
Всё, что мы только что описали, в то время, о котором идёт речь, ни Алёшкин, ни большинство его знакомых и друзей не знали. Ведь это, как, впрочем, и многое другое, стало известно лишь через много лет после окончания войны. Тогда же все люди были словно уткнувшиеся в кирпичную стену, и могли более или менее хорошо рассмотреть только кирпичи напротив их глаз и лица, а общее представление о всей стене для них оставалось просто недосягаемым.
Так было и с Борисом. Он видел, что фашисты в окопах, блиндажах и дотах, расположенных напротив их 65-й стрелковой дивизии, устроились прочно, и что у них нет недостатка ни в боеприпасах, ни в оружии. По каждому, даже пустяковому как будто, поводу они открывали пулемётную, миномётную и артиллерийскую стрельбу.
Это-то ему пришлось испытать уже не один раз на собственном опыте. И машину его, когда проезжала по рокадной дороге, несколько раз пытались накрыть миномётным огнём. Когда он пробирался из тылов какого-нибудь полка к батальонному медпункту, не однажды приходилось ложиться в снег, а иногда и прямо в болотистую жижу, и пережидать в таком положении полчаса и долее, пока чем-то обеспокоенные немцы не прекратят бросать мины.
Видел он также, что зимой и весной 1942 года при любой ясной погоде над армейскими тылами кружились значительные группы фашистских бомбардировщиков, защищаемых «мессершмиттами», а с нашей стороны навстречу 12–15 немецким самолётам вылетала тройка или, в лучшем случае, шестёрка «ястребков». И хотя лётчики этих юрких самолётов вели самоотверженный бой, численное превосходство фашистов давало себя знать.
Рассказали мы об этом совсем не для того, чтобы своими словами изложить историю Великой Отечественной войны, совсем нет. Ведь об этом написано, и очень хорошо написано, много настоящих военно-исторических исследований и произведений художественной литературы, и нам попросту невозможно со всем этим тягаться. Но вкратце напомнить ту исторически сложившуюся обстановку, о которой мы сообщаем спустя более сорока лет, вероятно, необходимо. Без воспоминаний об этом не будут понятны действия и поведение наших героев.
* * *
Пока Алёшкин находился на совещании, а затем в отпуске, медсанбат № 24 передислоцировался на новое место. Предполагалось, что лечебной работы в батальоне будет очень немного, поэтому развернули всего четыре палатки ДПМ – сортировку, операционно-перевязочную, госпитальную и эвакопалатку – и две ППМ, в одной из которых поселился комбат и комиссар медсанбата. Все остальные службы, а также личный состав батальона, разместились в отремонтированных землянках и бревенчатых домиках, доставшихся «по наследству».
Нужно немного сказать об обстановке, царившей в медсанбате. К этому времени, то есть примерно за год существования медсанбата № 24, в нём образовалась определённая группа врачей, наиболее опытных, хорошо показавших себя за время боевых операций и завоевавших среди остальных врачей и всего медперсонала большой авторитет. Состояла эта группа из командира госпитального взвода З. Н. Прокофьевой, командира сортировочного взвода Л. Д. Сангородского, командира операционно-перевязочного взвода, а теперь и ведущего хирурга С. В. Бегинсона. Пока Алёшкин был в составе батальона, в эту группу входил и он. Теперь же, с назначением его начсандивом, в этой группе осталось три человека. Благодаря своим знаниям и старательной работе они пользовались авторитетом и у командного состава дивизии. Особенно к ним благоволил комиссар дивизии Марченко, которого Прокофьева очень успешно вылечила от старой хронической болезни. Естественно, что командование дивизии, принимая нового командира батальона Фёдоровского, рекомендовало ему не только беспрекословно подчиняться распоряжениям начсандива (хотя и младшего по званию и возрасту), но, кроме того, во всей своей работе советоваться и с перечисленной группой врачей.
Такая рекомендация, сделанная в весьма категоричной форме, очень обидела и без того считавшего себя незаслуженно наказанным Фёдоровского, и, конечно, произвела действие, обратное тому, на которое рассчитывали комиссар и командир дивизии.
Фёдоровский стал к этой группе относиться свысока (ведь все они были врачами третьего ранга, а он второго), не только не прислушивался к их мнению, но вообще старался игнорировать их. А «триумвират», как они стали себя называть после ухода Бориса, повёл себя тоже неправильно: продолжал выполнять свои обязанности с толком и аккуратно, но как бы не замечая присутствия командира медсанбата.
Эта взаимная неприязнь, начавшись с первых дней появления в батальоне нового командира, к июню разрослась настолько, что практически Фёдоровский остался в одиночестве. Авторитет «триумвирата» был так велик, что весь медицинский состав медсанбата, в том числе и командир медроты Сковорода оказались на его стороне.
Может быть, Фёдоровского это даже устраивало, потому что он воспринял такое отчуждение совершенно спокойно и, по существу, в дела медсанбата фактически не вмешивался, а сидел целыми днями в своей палатке, иногда прикладываясь к постоянно стоявшей на его походном столе фляжке, иногда читая какую-нибудь книжку.
И в этой последней передислокации всё его участие выразилось только в том, что он потребовал установки для себя и комиссара отдельной палатки ППМ. Всей передислокацией и оборудованием помещений батальона на новом месте, а также и планированием работы медсанбата на будущее он не интересовался, полностью свалив эту работу на Сковороду и начхоза Прохорова. Естественно, не получая никаких указаний от комбата, оба эти исполнительные, но недостаточно опытные люди, обращались за помощью к членам «триумвирата» и выполняли их рекомендации.
Комиссар медсанбата, которого на эту работу рекомендовал Фёдоровский, как своего знакомого, продержался только до первой беседы с Марченко, который, выявив его чиновничий подход к делу, немедленно от работы его отстранил. Таким образом, на какое-то время медсанбат снова остался без комиссара.
Лишь на новом месте политотделом дивизии на эту должность был прислан старший батальонный комиссар Кузьмин. По мнению всех медсанбатовцев, пока ещё никто из политработников не смог заменить Подгурского. Николай Иванович был очень знающим, очень опытным политработником и очень хорошим, чутким и добрым человеком, «настоящим коммунистом», как сказал о нём однажды Лев Давыдович Сангородский.
Подгурский знал каждого санитара, каждого шофёра, каждую дружинницу, не говоря уже о медсёстрах, фельдшерах и врачах, в лицо, помнил не только скудные биографические данные, имевшиеся в личных делах, но за время своей работы (а ему досталось самое трудное время – голодная блокада около Ленинграда) Подгурский сумел в беседах узнать о людях почти всё и с любым медсанбатовцем поговорить по душам. Мало того, он постарался изучить специфику работы такого медицинского учреждения, каким являлся медсанбат, и при решении вопросов о недостатках того или иного врача, фельдшера или кого-либо другого, его голос, его совет, бывшим тогда командиром медсанбата Перовым всегда принимался во внимание.
Передавая дела новому комиссару, Николай Иванович постарался передать ему и весь свой опыт, накопленный за время работы в батальоне, и дать характеристику работникам санбата и прежде всего врачам. Но, к сожалению, новый комиссар к этим советам отнёсся очень поверхностно, да они ему и не успели пригодиться, слишком краток был его срок пребывания в батальоне.
Вновь назначенному комиссару Кузьмину пришлось эту работу начинать сначала, а он к ней был не очень-то подготовлен. В армии он никогда не служил, мобилизован был в начале 1942 года, до этого работал преподавателем обществоведения в каком-то техникуме г. Ташкента.
Кузьмин был политически грамотным человеком, умел найти подход к людям, мог толково объяснить материалы, напечатанные в газетах, считал совершенно необходимым ведение регулярной политико-воспитательной работы среди личного состава батальона, поступающих раненых и больных. Но это было и всё. Найти общего языка с медработниками он не сумел главным образом потому, что до этого никогда не сталкивался с медицинскими учреждениями, и не мог себя представить одним из участников работы в нём, а также и потому, что фронтовые условия с их бытовой неустроенностью повлияли на его здоровье и настроение. В своём ближайшим товарище и руководителе – командире медсанбата он поддержки не нашёл, а, наоборот, встретил, если не прямую вражду, то, во всяком случае, полное отчуждение.
Фёдоровский, кадровый военный врач, начавший свою службу с врача полка, с первых дней войны командовал фронтовым госпиталем. Затем, как он считал, был совершенно незаслуженно снят с этой должности и загнан в какой-то медсанбат, а тут ещё и комиссара, которого Фёдоровский выбрал сам, сняли, назначив вместо него штатского, неопытного, да ещё к тому же и больного человека.
Да, комиссар Кузьмин был действительно болен: он страдал довольно тяжёлой формой ожирения, а так как был уже немолод – более пятидесяти лет, то одновременно с этим страдал и серьёзным нарушением сердечной деятельности. Это установила Зинаида Николаевна, оказывавшая Кузьмину помощь уже через неделю после его прибытия в батальон. Она назначила ему целый ряд лекарств и обязала комиссара вести по возможности спокойный образ жизни. Те, кто прочёл хоть часть наших записок, уже понимают, какая «спокойная» жизнь могла быть уготована комиссару медсанбата.
Между прочим, именно из-за Кузьмина у Прокофьевой и Сангородского произошёл крупный инцидент, едва не кончившийся серьёзной ссорой. Как только новый комиссар прибыл в батальон, Лев Давыдович, увидев его полноту, нелепо сидящее новое обмундирование и болтающийся где-то внизу ремень, сразу же окрестил его Брюхоносцем. Очень быстро по армейскому «беспроволочному телеграфу» эта кличка дошла чуть ли не до каждого медсанбатовца.
Зинаида Николаевна, зная, кто мог быть автором этого прозвания, обрушила свой гнев на Сангородского. Она не терпела несправедливых насмешек, тем более над больным человеком, и потребовала от Льва Давыдовича, чтобы он немедленно принял меры по ликвидации этого дурацкого прозвища.
Сангородский сам понимал, что сделал глупость, и постарался как-то её исправить. Но больше всего этому помог сам комиссар. Он, в отличие от командира медсанбата, всё время старался быть среди людей, и если не проводил какой-либо беседы или читки, то принимал участие в деятельности той части коллектива батальона, около которой находился.
Все видели, как тяжело приходится этому пожилому, тучному человеку в военно-полевых условиях, как мучает его одышка, как иногда начинает синеть его лицо и с каким усилием он зачастую бредёт в свою палатку, чтобы выпить лекарство, приготовленное по назначению Прокофьевой. Своим поведением Кузьмин вскоре завоевал, если не боевой авторитет, то, во всяком случае, расположение и сочувствие медсанбатовцев, которые старались лучше выполнить намеченное им дело, чтобы как можно меньше утруждать его.
Всё это Борис узнал в первый же день своего возвращения и пребывания в новом домике, расположенном на краю территории медсанбата, где его встретили Венза и Джек и где вечером собрались для беседы «триумвират», командир медроты Сковорода и секретарь партячейки Прохоров.
На этом неофициальном совещании не было только командира и комиссара медсанбата. Первый, видимо, считал ниже своего достоинства явиться к низшему по званию, а второму после очередного сердечного приступа был прописан Зинаидой Николаевной постельный режим. Кузьмина положили в госпитальной палатке, где в это время не было ни одного человека. Там он мог побыть один в настоящем покое.
В палатку командира медсанбата волей-неволей заходили то начальник штаба с бумагами, то начальник медснабжения или начхоз, чтобы подписать какие-либо требования или отчёты (кстати, как ни возмущался Прохоров, все эти документы Фёдоровский подписывал, не читая). Кроме того, комбат много курил, а больной комиссар табачный дым переносил с трудом. Его просьбы о прекращении курения Фёдоровский оставлял без внимания. В госпитальной палатке Кузьмин от всего этого был избавлен.
В этот же вечер Борис навестил Кузьмина и впервые познакомился с ним. Он убедился, что комиссар батальона серьёзно болен и решил в ближайшие же дни поговорить о его замене с комиссаром дивизии Марченко.
Утром следующего дня Алёшкин послал Вензу к Фёдоровскому и попросил того зайти к нему. Комбат пришёл примерно через час. Почти не здороваясь и не ожидая приглашения, он уселся у стола на единственный имевшийся стул и довольно грубо спросил:
– В чём дело? Зачем я вам понадобился?
Борис почуял запах перегара, исходящий от Фёдоровского и понимая, что тот, видимо, не совсем трезв, решил не ввязываться в долгую беседу и поэтому коротко сказал:
– Мне для санотдела армии нужен план работы медсанбата на ближайший месяц. Прошу к завтрашнему дню составить и предоставить мне.
Фёдоровский встал и, хмуро глядя на Алёшкина, сердито заметил:
– Для этого могли меня и не вызывать, передали бы через помощника. Я поручу своим писарям составить.
Фраза эта, произнесённая сердитым и даже озлобленным тоном, вызвала реакцию Джека. Из-под стола раздалось довольно грозное ворчание. Фёдоровский отскочил от стола и ещё более раздражённо произнёс:
– Развели в медсанбате какой-то зверинец!
Затем он вышел, хлопнув жиденькой дверцей избушки.
Кстати о «зверинце». В батальоне продолжал жить только один «зверь», это восточно-европейская овчарка Джек. Он уже давно был освобождён от всяких повязок и, хотя ещё слегка прихрамывал, но уже бегал на четырёх лапах по всему лагерю. Он довольно добродушно относился ко всем «своим» врачам, медсёстрам, санитарам и даже выздоравливающим, но каждого нового человека, появившегося на территории медсанбата, встречал настороженно и недоверчиво.
Правда, и «своим» он вольно обращаться с собой не позволял, например, никому, за исключением Игнатьича, не позволял себя гладить, ни от кого не брал из рук пищи, хотя с удовольствием съедал всё, что было в миске. Он не кусал тех, кто пытался погладить его, протягивая к нему руку, но немедленно отскакивал на несколько шагов от этой руки, приподымал верхнюю губу, издавал тихое, но устрашающее ворчание.
Вскоре все привыкли к повадкам Джека и не пытались его гладить. Разумеется, пока Борис жил в медсанбате, в бараке рабочего посёлка № 12, то там же жил и Джек. Очень часто туда наведывался Игнатьич, всегда приносивший собаке что-нибудь вкусненькое. Джек встречал появление Игнатьича радостным постукиванием хвоста по полу, умильно глядел на него, милостиво позволял ему почесать за ушами и потрепать по шее, и с аппетитом съедал всё, но на этом его проявление дружбы кончалось.
К Вензе он относился как к неодушевлённому предмету: ел приносимую им пищу, царапался в двери, слегка повизгивая, когда ему нужно было выйти, что заставляло Вензу открыть дверь, так же царапался обратно, если ему нужно было войти в дом. Но иногда мог часами лежать около двери, терпеливо ожидая, пока её не откроет Венза или кто-нибудь из проходящих мимо.







