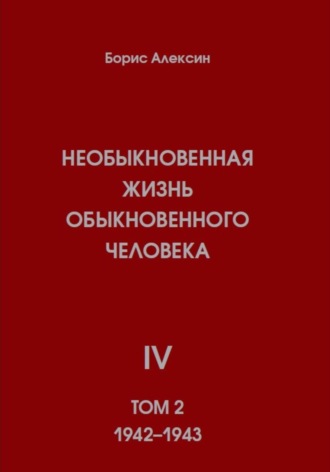
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 2
– Без приказа нельзя, – ответил Борис. – Да и нетранспортабельных у нас много.
– Вот как ахнут прямо по нашим палаткам, так мы все нетранспортабельными станем. Надо отсюда уходить.
Алёшкин подумал немного, затем сказал:
– Хорошо, я завтра съезжу в штаб дивизии, с начсандивом, комиссаром и комдивом поговорю. А вы, знаете что, товарищ Скуратов? Завтра чуть свет съездите-ка за нашу Александровку, там хороший лесок был, может быть, он пустой, туда бы хорошо и переехать. И от основной дороги не очень далеко.
– Слушаюсь произвести рекогносцировку, – ответил начальник штаба.
– А теперь мне поспать надо, утречком Картавцева хоть на три-четыре часа подменю. У меня там квартирантку Зинаида Николаевна поселила, так я здесь на чьём-нибудь топчане прилягу.
– Знаю, знаю, – засмеялся Скуратов, – оккупировали ваш домик! Что ж, ложитесь вот на эту постель. Писарь Афанасьев сегодня дежурит по кухне, так что койка свободна.
Борис не нашёл сил даже поблагодарить, скинул сапоги, снаряжение и уже спустя несколько минут спал крепким сном. Молодость и утомление брали своё.
Ранним утром следующего дня комбат был разбужен воем сирен пикирующих бомбардировщиков, свистом и совсем близкими разрывами авиабомб. Вскочив на ноги, он несколько мгновений не мог сообразить, где находится, но затем вспомнил всё и выскочил наружу. Как раз в этот момент новый немецкий бомбардировщик пронёсся над территорией батальона и сбросил очередную серию бомб. Опять каким-то чудом все они упали не в расположении батальона, а несколько десятков метров дальше.
Алёшкин, подбегая к своему домику, заметил в щели Игнатьича и Джека. Старик чертыхался и матерился в адрес проклятых фрицев. Увидев стоявшего наверху командира, он вылез из щели, следом за ним выскочила и собака.
– Сейчас за завтраком схожу, – сказал Игнатьич. – Чёртовы фрицы вон уже позавтракали, опять за своё грязное дело принялись.
Он схватил котелок и трусцой побежал в кухню, а Алёшкин с Джеком зашли в свой домик. Борис осторожно откинул плащ-палатку, закрывавшую вход во второе отделение домика, и заглянул туда. Его аккуратно заправленная постель была пуста.
Он побрился, умылся и, несмотря на то, что немецкие самолёты продолжали бомбёжку вокруг медсанбата, остался в домике. Выглядывая из открытой двери, он видел, что помимо яростной стрельбы зениток, которых в этом лесу было много, в воздухе появились и краснозвёздные истребители. Они своими быстрыми атаками нарушили строй немецких бомбардировщиков и заставили его рассыпаться на большое расстояние.
За завтраком Игнатьич рассказал, что Шуйская проснулась ещё затемно, вскочила, прибрала всё за собой и убежала в сестринский барак.
Борис, как намечал раньше, пошёл подменить на несколько часов Картавцева. По дороге он завернул в сортировку, где от Сангородского узнал, что в течение ночи раненых поступало мало, утром ещё не пришло ни одной машины, так что у хирургов работы было немного.
В большой операционной только что закончили последнюю операцию, и Елизавета Васильевна организовала генеральную уборку. В малой на очереди находилось с десяток легкораненых, отправленных из сортировки. С ними надеялись управиться быстро, после чего также планировали как следует убраться. Картавцев заявил, что ночью имел возможность немного отдохнуть и в замене не нуждается.
Алёшкин отправился на командный пункт дивизии, чтобы договориться о передислокации медсанбата. Перед тем, как просить у командования дивизии разрешения, ему хотелось поговорить с начсандивом Прониным, но, к сожалению, того не было на месте, он в это время находился в ППМ какого-то полка. Борис зашёл в землянку командира дивизии, где сидели комиссар полка и начальник штаба дивизии.
Когда Борис обратился к комдиву с просьбой о разрешении на передислокацию батальона, оба они его поддержали. Несмотря на это, а может быть, именно из-за их поддержки, комдив, полковник Володин, категорически запротестовал. Он заявил:
– Что, доктора, струсили?! За свою шкуру боитесь? А то, что медсанбат находится так близко от ППМ, нам очень удобно: раненые на передовой не задерживаются. Если здесь вас бомбят, так и на новом месте бомбить будут. Вообще, пока останетесь, где находитесь, тем более что начсандив об этом вопроса не ставит, так что не лезьте через голову своего начальства.
Не успел комдив закончить этой фразы, как в двери, отделяющей кабинет комдива от прихожей, появился Пронин. Заметив его, Володин продолжал:
– Вот, товарищ Пронин, полюбуйтесь на своего предшественника: пришёл с просьбой, чтоб я разрешил медсанбат в тыл перевести! А вы ведь сами говорили, что близость санбата к ППМ для нас очень выгодна.
– Да, – ответил Пронин, – так точно, говорил. Но тогда обстановка другой была. У нас шли тяжёлые бои, поступало очень много раненых, и чем быстрее им оказывалась квалифицированная хирургическая помощь, тем было лучше. Теперь же атаки немецкой пехоты почти прекратились, они оборонительные сооружения строят, как мне начальник штаба говорил. Поступление раненых в полках резко сократилось. А свою авиацию фашисты бросили на армейские и дивизионные тылы, вы ведь и сами знаете. И в обменный пункт, и в артдивизионы, и в хлебозавод, да и в медсанбат уже бомбы попадали. Ну, если командный пункт дивизии, многие штабные тыловые учреждения могут в землянках или в щелях отсидеться, то ведь санбат этой возможности лишён. Их палатки не спрячешь в землю, и раненых в щели не затащишь. Я считаю, что товарищ Алёшкин правильно ставит вопрос. Пока их по-настоящему не разбомбили, им надо передислоцироваться, и по возможности подальше от таких часто посещаемых учреждений, как компункт дивизии, обменный пункт и хлебозавод.
Борис очень обрадовался такой поддержке от нового начсандива, ведь, как мы знаем, они были почти незнакомы. По слухам, распространившимся в дивизии, Пронин почему-то стал любимчиком комдива и находился в довольно натянутых отношениях с комиссаром. Алёшкин предполагал, что высказывания Пронина будут идти вразрез с его просьбой, и уже приготовил возражения, а тут вдруг такая приятная неожиданность.
Надо сказать, что, пожалуй, именно с этого момента у Бориса и Пронина завязались самые хорошие дружеские отношения, продолжавшиеся всё время, пока Алёшкин служил в 65-й стрелковой дивизии.
Комдив, казалось, не ожидал от начсандива такого ответа. Выслушав Пронина, он что-то проворчал, а затем сказал:
– Ну, хорошо, раз вы все так настаиваете, мы в штабе этот вопрос обсудим. Пока же разрешаю только провести рекогносцировку будущего расположения медсанбата. Вы, товарищ Пронин, займитесь этим, потом мне доложите. Можете идти.
Алёшкин и Пронин покинули землянку комдива, дружески пожали руки. Борис подробно рассказал о вчерашней бомбёжке и о попадании одной из бомб в батальон. В общих чертах об этом происшествии Пронин уже знал. Алёшкин признался и в том, что он уже принял меры, отправив на рекогносцировку начальника штаба батальона Скуратова.
Пронин одобрил, однако, предупредил:
– Вы, Борис Яковлевич, очень-то не торопитесь. Во-первых, комдив ещё согласия на передислокацию не дал, во-вторых, кроме него мы должны получить разрешение и от начсанарма. И, наконец, в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, у вас в батальоне более двухсот нетранспортабельных, что с ними делать будем? Это надо решать.
Борис только приготовился отвечать на поставленные вопросы, как им навстречу попался начальник обменного пункта дивизии, старший интендант первого ранга Кирьянов. Его Алёшкин знал с самого начала войны, ещё с Софрина, и они дружески поздоровались. Был знаком Кирьянов уже и с Прониным. Борис, воспользовавшись случаем, решил пробить очень важный, с его точки зрения, вопрос:
– Слушай-ка, Пётр Игнатьевич, – обратился он к Кирьянову, – ты ведь знаешь, что у нас в медсанбате произошло?
– А, бомба-то? Слышал, слышал.
– Ну, значит, знаешь, что нашего нового начхоза контузило, и мы его в госпиталь эвакуировали. Да он не по нашему карману, ведь интендант первого ранга. Верни-ка нам, пожалуйста, Прохорова, а то мы без него как без рук.
Кирьянов задумался. Почти одновременно с переводом Прохорова из медсанбата к нему из отдела кадров армии прибыл на должность заместителя интендант первого ранга и как будто опытный человек. Он пытался от него отказаться, но начальник тыла армии посоветовал не сопротивляться, и пришлось замолчать. Так что фактически Прохоров, которого он прочил себе в замы, остался без дел. Пришлось его временно назначить инспектором по снабжению. Тому, видимо, это не очень нравилось. Так что просьба Алёшкина пришлась кстати. Но соглашаться сразу на какие-либо просьбы было не в обычае Кирьянова. Да ещё неизвестно, как к этому понижению отнесётся и сам Прохоров.
– Хорошо, я подумаю, – сказал он.
– Да что тут думать? – воскликнул Борис. – Ведь медсанбат на днях передислоцироваться будет, а как я без помпохоза это сделаю? Ты же понимаешь, всю работу можно сорвать!
– В самом деле, – присоединился к просьбе Алёшкина Пронин, – надо бы помочь медсанбату, товарищ Кирьянов, мы ведь в долгу не останемся.
А Кирьянов, действительно, не хотел ссориться с медсанбатом. Он страдал застарелой язвой желудка, и, хотя в периоды боевых операций, в самый разгар напряжённой работы боли куда-то исчезали, в перерывах, в более или менее тихий период они вновь появлялись, и он был вынужден не раз прибегать к помощи такого опытного врача, как Прокофьева. А она ведь была в медсанбате, и ей ничего не стоило, чем возиться с ним здесь, упрятать его куда-нибудь во фронтовой, а то и в тыловой госпиталь. А уж оттуда можно было не только не вернуться в свою дивизию, но и вообще застрять в тылу. Этого ему совсем не хотелось.
– Ну, ладно, – произнёс Кирьянов, – уговорили. Сегодня вечером пришлю его, если только он согласится.
Ну, об этом Борис не беспокоился, он знал, с какой неохотой Прохоров покидал медсанбат, и был уверен в его согласии, особенно теперь, когда командиром батальона стал Алёшкин. Ведь одной из причин его ухода был Фёдоровский, с которым он с первых же дней не нашёл общего языка.
Между прочим, для характеристики Фёдоровского нелишне упомянуть и о причине их ссоры. Тот потребовал, чтобы ему как командиру на кухне готовили отдельные блюда по специальному заказу. Прохоров, конечно, возмутился. До сих пор все командиры батальона питались из общего котла и имели разницу в продовольствии только ту, какую имел весь комсостав, получавший дополнительный так называемый командирский паёк. Однако возражения Прохорова Фёдоровский во внимание не принял, а приказал старшему повару и кладовщику его требование выполнять. Ссориться с новым командиром Прохоров не стал и воспользовался приглашением Кирьянова, чтобы уйти в дивизионный обменный пункт.
* * *
Продолжая разговаривать о предстоящей передислокации батальона, а также о боевых делах дивизии и работе полковых пунктов, Борис и Пронин незаметно подошли к шлагбауму, стоявшему у въезда в расположение штаба дивизии. Туда только что подошла «санитарка», на которой Алёшкин приезжал из медсанбата и которую отправлял в ППМ 51-го полка, чтобы вывезти из него раненых, если они там имелись.
В кабине машины рядом с шофёром оказалась не медсестра эвакоотделения, обычно сопровождавшая раненых из полкового медпункта, а старший врач 51-го стрелкового полка, военврач третьего ранга Иванов. Увидев подходивших, он вышел из машины, и тут Борис и Пронин заметили, что левая рука его забинтована.
Начсандив спросил:
– В чём дело, товарищ Иванов? Вы ранены?
– Да пустяки, товарищ начсандив, немного осколком царапнуло ещё позавчера. Погнал меня командир полка, езжай, покажись в медсанбат, вот и еду.
Борис усмехнулся.
– Ну, что ж, поехали, сейчас посмотрю, не нужно ли тебе оттяпать твою левую.
Иванов довольно сердито сказал:
– Вам бы всё «тяпать»! Знаю я вас, хирургов! Там рана-то пустяковая, да и не болит вовсе. Так и знайте, я всё равно в свой полк вернусь!
Борис снова усмехнулся:
– Да вернёшься, вернёшься! Ну, чего ты расстроился? Посмотреть твою рану и обработать, наверно, надо, ведь ты, поди, её просто так завязал… Так мы поехали, товарищ начсандив?
– Поезжайте, поезжайте! А я сегодня пошлю донесение в санотдел армии о нашем намерении и попрошу помощи и совета в отношении нетранспортабельных, – ответил тот.
Поторговавшись несколько минут с Ивановым, кому где ехать, Борис всё-таки сел в кабину, и машина направилась в медсанбат.
За всеми этими разговорами время прошло незаметно, и Алёшкин вернулся в батальон уже вечером. Почти одновременно с ним приехал из своей поездки и Скуратов. Он сообщил, что юго-западнее Александровки, километрах в двух за нею имеется хороший лесной массив, который ещё никем не использовался до сих пор. Он расположен по пологому косогору, начинавшемуся в нескольких десятках метров от небольшой болотистой речушки. К югу от косогора – обширные болота, а к северу и на северо-восток – довольно сухая местность, от которой до основной дороги, идущей от Жихарева на фронт, около трёх километров. С западной стороны от этой же дороги косогор отделяет болотистая низина шириной не более двухсот метров. Если через неё проложить лежневую дорогу, то получится хороший въезд в медсанбат.
На следующий день в батальон прибыл Прохоров, и, не дожидаясь решения комдива и начсанарма, Алёшкин принял все подготовительные меры к передислокации. Побывав на новом месте сам, он одобрил выбор, сделанный Скуратовым, и сразу же направил туда Прохорова с двумя десятками людей из числа выздоравливающих и санитаров для устройства и подготовки места. Одновременно он приказал начать свёртывание и упаковку имущества медсанбата.
Глава третья
На следующий день произошёл ещё один случай, едва не кончившийся для Алёшкина трагически.
Сразу же по приезде в батальон из штаба дивизии Борис осмотрел рану Иванова, произвёл необходимую обработку и убедился, что рана длиною около восьми сантиметров – поверхностная, повреждена только кожа и подкожная клетчатка. Все крупные сосуды и нервы были целы. Борис оставил Иванова на несколько дней в батальоне, но тот уже через два дня стал настойчиво проситься отпустить его «домой». Перед его уходом Борис снова при перевязке осмотрел рану и, убедившись, что нагноения не произошло, и рана заживает удовлетворительно, разрешил ему ехать в полк.
Они вместе отправились по дороге к передовой. Иванов решил добраться до ППМ пешком, напрямик через лес. Расстояние это не превышало трёх километров. Борис, будучи с Ивановым в дружеских отношениях, так как вместе с ним приехал в дивизию из Нальчика, решил его проводить. Они пошли по дороге, идущей от медсанбата к основному пути, ведущему на фронт. Вместе с ними отправился и Джек.
Собака, между прочим, при всех пеших путешествиях Бориса почти всегда его сопровождала. Так было и в этот раз.
Хотя в небе то и дело проносились немецкие бомбардировщики, завязывался воздушный бой и почти беспрерывно стреляли зенитки, Джек, пересилив свой страх, выскочил из щели, в которой он обычно днём отсиживался с Игнатьичем, и побежал вслед за хозяином.
Едва Алёшкин и Иванов отошли от границы батальона метров двести, как над их головами пролетел очередной фашистский бомбардировщик и сбросил серию бомб.
Надо сказать, что все эти дни стояла отличная лётная погода (начиналось бабье лето), и немецкие самолёты, правда, в значительно меньшем количестве, чем в первые дни, продолжали с раннего утра и до позднего вечера с коротким перерывом на обед, как говорил Игнатьич, бомбить леса и болота, где по их предположениям могли находиться тыловые подразделения дивизий 8-й армии. Конечно, попутно они бомбили и основные дороги. В этих полётах им мешали своим огнём зенитки и истребители, временами их атаковавшие, но тем не менее превосходство фашистов в воздухе ощущалось заметно. И то, что в центр медсанбата пока ещё не упало ни одной бомбы, было чистой случайностью.
Заслышав вой самолёта, свист бомб и, наконец, даже увидев их падение, словно капель чёрного дождя, Борис и Иванов немедленно сбежали с дороги и бросились голова к голове в придорожный кювет. Джек отбежал от дороги в противоположную сторону и нырнул в какую-то яму под густые кусты. Почти сразу же в то место, где они только что шли, упала довольно большая бомба, раздался взрыв, и несколькими секундами позже на Бориса и его спутника навалилась груда земли, придавившая их ко дну канавы. Правда, в том месте, где находились их головы, довольно плотной массой, хотя и обломанный, стоял придорожный кустарник. Кусты прогнулись под тяжестью земли, но не дали ей осесть полностью и образовали над головами людей небольшой шатёр, в котором находилось немного воздуха. Тела их были так плотно придавлены землёй, что ни ногами, ни туловищем не получалось даже пошевелить. Руки оставались относительно свободными, они находились около голов, но, когда Иванов попробовал упереться руками в нависшие над ними кусты, как сейчас же посыпалась земля. Они поняли ужас своего положения, а также и то, что все попытки самостоятельно освободиться из-под земли бесполезны. Тот небольшой запас воздуха, который оставался, быстро загрязнялся дыханием.
Определить, сколько времени они так пролежали, было невозможно. Иногда им казалось, что прошло всего несколько минут, а иногда – несколько часов. Сначала они молчали, затем Иванов глухо проговорил:
– Ну, Борис Яковлевич, кажется, нам капут. Недаром я так не хотел ехать в медсанбат…
Борис не смог ему ответить, хотя слова Иванова и достигли его слуха. Он уже был почти без сознания. Одновременно с ним, задохнувшись выделяемой ими углекислотой, потерял сознание и Иванов.
Очнулся Борис от яркого солнца, бившего ему в глаза, находясь на мерно покачивающихся носилках. Первое его стремление было спрыгнуть с носилок, но попытка закончилась ничем, и он снова потерял сознание. Между тем, шедшая рядом медсестра заметила его шевеление и громко крикнула:
– Зинаида Николаевна, Борис Яковлевич очнулся!
Прошло ещё несколько мгновений, он опять открыл глаза и узнал склонившееся над ним озабоченное лицо Прокофьевой. Она пощупала его пульс и сказала:
– Лежите спокойно, лежите! Сейчас вас в ваш домик отнесём, а Иванова понесли в госпитальную.
Вскоре Борис уже настолько пришёл в себя, что разглядел идущую радом с ним Катю Шуйскую и Сангородского, которые о чём-то вполголоса разговаривали. Он не помнил, как его внесли в домик, как раздели и уложили в постель. Когда он снова открыл глаза, то стал с некоторым изумлением осматриваться кругом. Увидел Игнатьича, стоявшего в дверях, Джека, положившего голову к нему на кровать, и Шуйскую, которая сидела на табуретке и смотрела на него каким-то странным взглядом.
У Бориса было такое ощущение, как будто его сильно избили. В голове гудело и звенело, словно он выпил неимоверно большое количество вина. Почему-то и сердце то билось так сильно, что казалось, что оно выскочит из груди, то замирало совсем.
Посмотрев на девушку, он спросил:
– Что случилось? Почему я лежу? Где Иванов?
– Молчите, молчите, – почти умоляюще сказала Катя, – вам совсем нельзя говорить. Зинаида Николаевна сказала, чтобы вы молчали и не пытались вставать, а меня, как свободную от дежурства, посадили наблюдать за вами. Я вам сейчас всё расскажу.
И она рассказала, как часовой у въезда в медсанбат, спрятавшись при появлении самолётов в щель, вырытую около шлагбаума, успел увидеть, что одна из бомб, как он говорил, разорвалась на дороге – прямо там, где только что находились командир батальона и старший врач полка. Он поднял тревогу. На сигнал прибежали Сангородский и его санитары (сортировка была ближе всех к въезду), затем Сковорода и Скуратов с вооружёнными санитарами. Они решили, что часовой заметил группу фашистских разведчиков, нередко пробиравшихся в тыл, и поэтому поднял тревогу. Узнав, в чём дело, все бросились по дороге к воронке, даже не подумав о том, что фашистский лётчик мог вернуться и, увидев скопление людей на дороге (а там собралось уже человек пятьдесят) мог снова сбросить бомбы или расстрелять их из пулемёта.
Такая большая толпа собралась потому, что, кроме санитаров, к этому месту уже успели прибежать и свободные от дежурства медсёстры, дружинницы и врачи.
Обнаружив большую воронку, находящуюся почти посередине дороги, все окружили её. Никаких следов ни Алёшкина, ни Иванова не нашли. Собравшиеся молча смотрели внутрь, у всех была одна и та же мысль – прямое попадание, разнесло в клочья.
Санбатовцы горевали о такой нелепой гибели двух молодых врачей. Большинство особенно переживало гибель Алёшкина, ведь они находились с ним в медсанбате с первых дней войны. Медсёстры и дружинницы заплакали. Вдруг кто-то вскрикнул:
– Смотрите, смотрите, что Джек-то делает!
А Джек на самом деле выглядел странно: он усиленно рыл лапами с краю огромную кучу земли, наваленную взрывом на кювет дороги. Первым, кто опомнился, был Сангородский, он закричал:
– Они, наверно, там! Их засыпало, надо раскапывать!
Сковорода тут же послал несколько человек за лопатами, а все остальные санитары, медсёстры, врачи, стоявшие до сих пор неподвижно около воронки, не сговариваясь, бросились туда и стали руками разгребать и откидывать в стороны торф, песок, куски дёрна и мелкие камни. Джек, не останавливаясь, продолжал свою работу и только тихонько поскуливал. Вскоре усилия увенчались успехом. Часть кучи удалось разгрести, и все увидели чей-то сапог. Джек радостно залаял.
В это время прибежали санитары с лопатами, дело пошло быстрее, и через несколько минут тела Алёшкина и Иванова уже лежали на обочине дороги. Во время раскопок кто-то сбегал за Прокофьевой, и после освобождения Бориса из земляного плена, расстегнув ему гимнастёрку, она выслушивала сердце. Подняла голову и радостно объявила, что слышит слабое биение. Она приказала делать ему искусственное дыхание. Этим занялись Дурков и Картавцев.
Оказавшуюся поблизости Шуйскую она послала в госпитальную палату за шприцом и сердечными средствами. После этого Прокофьева занялась Ивановым. Он был моложе, здоровее, сердце его работало лучше, но и он нуждался в помощи.
Прошло около получаса, пока у обоих пострадавших восстановилось дыхание. Алёшкин окончательно пришёл в сознание у себя в домике, а Иванов – в госпитальной палатке.
– Таким образом, – закончила свой рассказ Шуйская, – вы, Борис Яковлевич, своей жизнью обязаны верному другу Джеку.
Кстати сказать, это был первый раз, когда Шуйская назвала Бориса по имени и отчеству.
В это время в домик зашла Зинаида Николаевна. Она слышала последнюю фразу Кати и заметила:
– Да, Борис Яковлевич, ваше счастье, что с вами был Джек. Не будь его, вряд ли бы я имела удовольствие с вами разговаривать. Правда, и эта девчурка вовремя его заметила и подняла крик.
Катя смутилась:
– Ну, я тут ни при чём, мог бы кто-нибудь и другой заметить.
– Верно, но это отняло бы лишние минуты, а тут была дорога каждая секунда. Хорошо и то, что все, не раздумывая, бросились вашу могилу разрывать. Пролежи вы в ней ещё минут пять, и всё было бы кончено. В рубашке вы родились! Я думаю, что дня через три вы уже подняться сможете. Была асфиксия, и тяжёлая, а сердце-то у вас не совсем хорошее. Вот и сейчас всё время перебои, так что вам придётся полежать. Будут около вас дежурить сёстры, а вы лежите. Сейчас вам ещё укол сделают. У Иванова дело лучше.
– Да вы что, смеётесь? Мне сегодня нужно ехать.
– Ну, сегодня ничего не выйдет. Думаю, что и завтра тоже, может быть, послезавтра я вам и разрешу встать, да и то – после моего осмотра, а, чтобы вы не вздумали нарушать мой приказ, я около вас часового поставлю. Катюша, будешь мне головой за командира отвечать! Не отходи от него до вечера ни на шаг, и пока никого к нему ни с какими делами не допускай. Поняла? Ну, я на тебя надеюсь. Я пришлю лекарство, пусть пьёт по столовой ложке каждые три часа. Вечером я смену пришлю. Пока, до свидания, товарищ командир. Пойду обход делать, да к Иванову зайду. У него дело осложняется тем, что сломана нога, видимо, упал тяжёлый камень, Картавцев её уже загипсовал. Ему придётся полежать, а он всё в полк рвётся.
Вот таким образом и остался Борис с глазу на глаз со своей молоденькой сиделкой. Именно тогда Катя Шуйская, стараясь не давать говорить больному, рассказала ему свою историю.
– Родилась я в семье железнодорожников в 1922 году, была по счёту третьей. После меня родилось ещё двое детей – сестра и брат. Из тех, что родились до меня, – один умер маленьким, самая старшая сестра замужем. Все мы, как я себя помню, жили в городе Пензе, раньше родители жили на каком-то разъезде. Я окончила фельдшерско-акушерскую школу в 1938 году. Меня направили работать в Пензенскую областную больницу. Полгода работала я палатной сестрой в хирургическом отделении, а с 1939 года стала операционной сестрой. В июле 1941 года меня призвали в армию, я попала в медсанбат № 24. Моему появлению в операционно-перевязочном взводе очень образовалась Елизавета Васильевна Наумова. Кроме неё, я была единственной, все остальные медсёстры, работающие сейчас операционными и перевязочными, до войны с хирургией дела не имели. Ну, а дальше вы знаете.
Но Алёшкину почему-то хотелось узнать о её жизни в батальоне как можно подробнее.
После обеда, принесённого Игнатьичем, он стал просить Катю рассказать ему о том, как проходила её служба в медсанбате. Шуйская сперва покраснела и довольно сердито сказала, что тут ничего интересного нет, а кроме того, ему, больному, после обеда следует спать, а ей нужно пойти к старшей операционной сестре Наумовой, доложить, что по приказанию Прокофьевой она будет дежурить до вечера и в операционную выйдет на ночь.
Борис промолчал, как будто соглашаясь с её доводами. Внутренне обрадовался, что она уйдёт, и, дождавшись этого, попробовал сесть. Сидя на кровати, он чувствовал, что в ушах шумело, голова кружилась, сердце билось неровно, но тем не менее стало понятно, что всё страшное уже позади. Он немедленно послал Игнатьича за Скуратовым и Сковородой, попросил позвать и комиссара. Когда те появились, Алёшкин уже снова лежал. Он сказал вошедшим:
– Я всё больше убеждаюсь в том, что нам надо скорей покинуть это место. Не сегодня так завтра совершенно случайно какой-нибудь немецкий самолёт накроет медсанбат серией бомб, и тогда не только не уцелеем мы, но погибнут и раненые, и всё наше имущество. Не будем ждать разрешения свыше. Вы, товарищ Сковорода, возьмите ещё двадцать человек и немедленно отправляйтесь на новое место в помощь Прохорову, готовьте дорогу и площадку для палаток. Срок для окончания всех этих работ – двое суток. А вы, товарищ Скуратов, заготовьте приказ по медсанбату о передислокации и проследите за тем, чтобы в течение суток всё лишнее – запасные неиспользуемые палатки, которые можно снять без ущерба для дела, вещи, продукты и большая часть медицинского имущества были подготовлены к переезду и погружены в свободные машины, в ППМ оставить только по одной машине. Там сейчас раненых поступает мало.
Обсудив ещё кое-какие вопросы и подписав требования на получение продуктов и медикаментов, Алёшкин почувствовал себя очень уставшим. Его клонило в сон, впрочем, этому, может быть, способствовало и то лекарство, которым его напоила после обеда перед уходом Шуйская. Вскоре он заснул.
Проснулся Борис, наверно, часа через четыре, было уже совсем темно. Он почувствовал себя совершенно здоровым. Шум в ушах и голове прекратился, силы как будто восстановились полностью. Конечно, первое, что он хотел сделать, это встать. Но едва он пошевельнулся, как почувствовал на своей руке маленькую твёрдую руку, и сразу же догадался, что это рука Кати. Повернувшись на спину, продолжая держать эту руку, увидел сидевшую рядом с его постелью девушку, уже одетую в белый халат и с шапочкой на голове.
– Проснулись, товарищ комбат? Ну, как вы себя чувствуете? – не отнимая руки, спросила она.
– Отлично, Катюша, хоть сейчас за стол!
– Ну, нет, сегодня вам ещё придётся полежать. Зинаида Николаевна сказала, чтобы вы до завтра и не думали вставать. Вон под кроватью и утка, и судно стоит, – чуть смущаясь, сказала она.
Почему-то и Борис смутился.
– Да сейчас особенно и делать нечего: раненых поступает мало, вполне справляются и без вас. Скоро и я должна идти на дежурство, меня сменит Люба из госпитального взвода.
– Ладно, – примирительно ответил Алёшкин, – с такой сиделкой не поспоришь. А вот Любу посылать не надо, я и так спокойно спать буду. Послушаюсь тебя, полежу, но только с одним условием: расскажи мне всё про себя.
– Так я уже всё рассказала!
– Ну нет, ты мне рассказала про свою жизнь, а про то, как жила в медсанбате, про Красавина ничего не говорила. Что он, пишет? Где он сейчас?
– А вам это интересно?
– Конечно, а то зачем бы я спрашивал.
– А вы смеяться надо мной потом не будете?
– Ну что ты говоришь! Зачем же я буду над тобой смеяться?
Несколько минут девушка молчала, то ли собираясь с мыслями, то ли вспоминая свою коротенькую жизнь, то ли всё-таки не решаясь рассказать про неё. Всё это время Борис держал Катю за руку. Наконец, она заговорила. Наверно, способствовала этому темнота, ведь они даже не видели лиц друг друга. А может быть, ещё и то, что в домике, кроме них и Джека, никого не было – Игнатьич отправился к своим приятелям из хозвзвода.
– Хорошо, слушайте мою исповедь. Но если вы хоть раз засмеётесь или потом когда-нибудь напомните то, о чём я вам сегодня рассказала, или об этом узнает кто-либо другой, я, во-первых, буду вас ненавидеть, а, во-вторых, могу даже сделать что-нибудь над собой…
Услышав такое предисловие, Борис готов был отказаться от своей просьбы, но любопытство оказалось сильнее, и он гарантировал выполнение этих условий.
– В медсанбат я попала совсем глупой и несмышлёной девчонкой, ведь мне ещё не было и 19 лет, когда началась война. Я была грамотной медсестрой, но в жизни не понимала ничего. В сутолоке формирования медсанбата я сразу обратила внимание на вас, вы мне очень понравились. Чем? Во-первых, тем, что вы оказались знающим хирургом, безотказным и удивительно хорошо и быстро работающим. Во-вторых, я просто поражалась вашей выдержке, вашему великодушию, вашей неизменной доброте ко всем раненым. Честно скажу, я была вами восхищена. Когда мне приходилось с вами работать, я считала это за честь и старалась выполнять всё как можно лучше, чтобы не получить ни одного замечания. Кажется, мне это удавалось. Но однажды… Это случилось, когда мы были в отдельном эшелоне на Карельском перешейке. Помните, вы жили в палатке с доктором Картавцевым, рядом стояла палатка докторов Климовой и Скворец, а ещё дальше – наша палатка медсестёр? Нас было трое: две постоянно дежурили в операционно-перевязочной, а одна отдыхала в палатке. К нам часто заглядывал старшина Красавин, он рассказывал разные смешные истории, шутил, и нам правилось его общество. Как-то поздно вечером, почти ночью, я пришла с дежурства и, полураздевшись, легла на постель из елового лапника (ведь вы помните, тогда мы спали на таких «постелях», еловые ветки застилали плащ-палатками). Пришёл Красавин, кроме меня в палатке не было никого. Он сел рядом, начал меня целовать, обнимать, затем навалился на меня. Кричать мне было стыдно, а так как он был гораздо сильнее, то быстро справился со мной. Это первый мужчина в моей жизни, и мне было больно и стыдно, – голос девушки от волнения, а может быть и от сдерживаемых слёз прервался. – Когда он меня оставил, я заплакала. Он сказал, чтобы я перестала реветь, мол, не знал, что я ещё девушка. Обещал, что не бросит меня, так как я ему нравлюсь,







