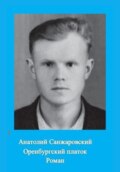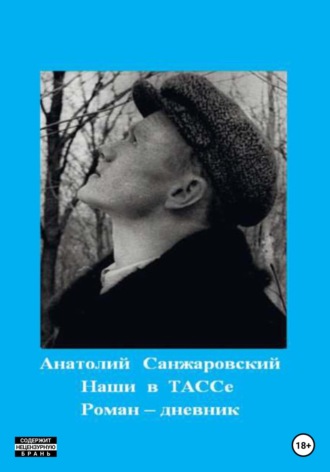
Анатолий Никифорович Санжаровский
Наши в ТАССе
1 декабря
Мозоли в Волге
Утро. Я пока один в отделе.
Влетел Марутов:
– Что, никого нет?
– Никого не видно.
– Даже в бинокль!
Девять двадцать. За окном сумрачно.
Входит Бузулук, напевая:
– Сказала мать: «Бывает всё, сынок,
И ты домой вернёшься без сапог.
Тогда, в конце пути,
Свои мозоли в Волгу опусти».
Олег зачарованно смотрит в окно:
– Иль мои мольбы дошли до Бога? Запустил снежными комьями! Эх ты, многостаночники-многострадальники! Снег валит, а толку мало…
Входит Великанов:
– Где же ваш бригадир Калистратов?
– Они-с болеют-с, – в чинном поклоне отвечает Молчанов. – Сейчас у нас два врио. Бузулук и Аккуратова. День командует парадом Олег, день- Татьяна. Впеременку. О! – показывает он на появившуюся на пороге Татьяну, – наш второй генсек!
Татьяна отмахивается:
– Не паясничай, Валька! Дураки вы все и уши у вас дырявые. У меня такое… Сегодня утром шарахнула две таблетки анальгина. Голова болит… У меня ж… Четыре дня пёс не ел, рвало его. Пошли на ветпункт. Измерьте, сказали, ему температуру. «Как?» – «Градусник в задний проход на пять минут». Легко сказать. Пробовала… Пёс кусается. Положила градусник под лапку ему. Тридцать восемь и пять. Для собаки нормально. Прописали поить боржомом и нарзаном. Вот поила сегодня… Вроде ему лучше…
– Слава Марксику! – лукаво выкрикнул Молчанов.
– А я бы не шутила тут… – опечаленно вставила Мила. – Мне на днях подсунули под дверь щеночка. Слышу, вроде тихого детского плача за дверью. Открываю… Маленький, красивый… Дрожит… Ну какое тут сердце не заноет? Взяла… Третьи сутки живёт у меня… Давайте возьмём его на воспитание в РПЭИ.
Калистратов одобрил:
– Будет сыном РПЭИ!
– И глупо! – возразила Татьяна. – Будет в нашем отделе жить? А постоянная кормёжка, уход? Вы подумали своими кривыми мозгами? Если брать его… Лучше в дом. Мила! Ты ж… Это подарок Бога! Одинокая старая дева. Никого в доме кроме тараканов под плинтусами… Будет живой голосок в доме. Бери к себе!
– Да я уже подумала… Пожалуй, оставлю у себя…
– Ав-ав-ав! – во всё горло заорала Татьяна. – Полный одобрямс!
Великанов, застрявший у нас поболтать, всполошённо заозирался:
– Это какая-то у вас эпидемия!.. Совсем разучились говорить по-людски. Всё по-собачьи. Вчера на моё приветствие Гарегин Гарегинович ответил авканьем. Татьяна вот сейчас снова… Слушай, Таньк! Я приглашаю тебя в наш новогодний капустник. По сценарию, будешь за сценой тявкать. У тебя здорово получается!
9 декабря
У нас все классики
Сегодня Бузулук в ударе:
– У меня очередная годовщина супружеской жизни. Десять лет совместного ярма! Каково?! Что сделано за этот срок? Я отчитываюсь перед Родиной двумя сыновьями! Хорошо бы было, если б с мороза что-нибудь появилось на зубах пожевать вволю да по банке бальзама… Эх-х…
Дед кричит из-под стола:
«Мяу! Кошечка пришла».
Вошёл хохочущий Беляев. Рассказывает, как гендир Лапин выгонял тщедушного выпускающего Кошелькова. Сейчас на пенсии.
– Крепко Лапин его выживал. Гнал на пенсию. Метода какая… Закроет на часок в кабинете. Откроет… Бледный Кошельков бродит по коридору, хлюпает в жилетку всем о беде, ищет сочувствующих. Вот и родилась поговорка «Лапин требует крови, а Кошельков ходит по коридору и ищет донора».
На правах ио начальника Бузулук повопил на Милу и побежал на планёрку.
Мила расстроилась.
– Ну и конторка… Одного, Баринова, угробили и отправили в Иваново… Второго начальника, Калистратова, доконали. Заболел… Теперь сегодня у нас пузатый начальник Бузулук.
Бузулук с планёрки подошёл ко мне.
– Товарищ геолог Толик, Колесов велел тебе уйти до первого января. Потому что с первого января будет сокращение по-лапински, и тогда сокращённый не будет иметь права поступать на идеологическую службу. Урезать так урезать, сказал японский литсотрудник, делая себе харакири. Колесову сверху указано на близорукость при подборе кадров.
По углам зашушукались. Дрянь какую притащил. Это на меня подымают психическую атаку?
Мила поясняет новичку Прибылову (он у нас уже недели полторы вписывается в нашу суматошную жизнь):
– Тут нами как пешками двигают. И передвигать этими пешками пытаются тоже пешки.
Вбегает Бузулук и на нервах бузит:
– Говнюки вы все оказались. Колесов говорил со мной один на один. Я сказал вам одним, а уже чужачка Ермакова знает!
– Олег! – говорит ему Марина. – А ты не подзагнул насчёт идеологии? Как тогда… Про приказ Замятина сделать Миле Панченко подборку? Горячо берёшься, хлопчик…
Я поддержал её:
– «Люди холопского звания
Сущие псы иногда.
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа».
Тайная разведка выяснила. Ни о какой идеологии Колесов не говорил с Бузулуком. Просто Бузулучина очень хочет поскорей выслужиться, выпрыгнуть из врио в начальнички, а потому и начесал тут ворох чепухи. Авось сам себе подмажу.
Да так сильно подмазал, что сам и хлопнулся на своей скользкой дорожке.
У него рожа побитой собаки.
У лжи ножки тоненькие и трухлявые.
К вечеру зашла посплетничать Ермакова. Рассказывает про свою маленькую дочку.
– Моя доча отколола. Рассыпала игрушки по полу. Я ей: «Ты соберёшь их или нет?» – «Ни за что и никогда!»
Мне Люся сказала:
– Толя, почему ты не напишешь мне в вестник о геологах? Я прошу. За тобой бегает десятка, а ты от неё… Тань, а чего ты его так мило называешь – Толиком?
– Лаской хочу выманить тетрадь у него, куда он всё записывает.
Люся хохотнула:
– Дурайка! Я обещаю чекушку!
Я заинтересовался:
– Ну-ну… Кто больше?
Люся:
– За него дерутся две женщины. Резайкина и Майя Теодоровна.
– До крика! – пояснил я. – Вчера Резайкина на меня шумела: «Недодал два рубля!» Не подумайте чего. Недодал ей взносов в кассу взаимопомощи.
До метро я шёл вечером с Прибыловым.
– Кто у вас самый лучший? – спросил он.
– У нас нет последних. Все классики.
21 декабря
В туле
Я потерял журналистское удостоверение. Сказали, можно восстановить членство в отделении Союза журналистов, откуда снимался с учёта. Было это в Туле. Я и прискакал в Тулу, остановился в гостинице «Тула».
Свои дела я решил в один час.
Можно поболтаться по городу.
Пешком пошёл в «Молодой коммунар».
Во дворе грустно обошёл вокруг старый костёл, в котором жила редакция…
В коридоре натолкнулся на Чубарова. Сгорбился, руки трясутся. Суетлив. Жалок. Законченный бухарик.
– В столицу въехал на женщинах? – ядовито проскрипел он ржавым голосом.
– На поезде. Я пока не женат.
– Ты так хотел в Москву… Добился… Настойчивый…
– Настырный.
Валя Гуркова, красавица машинистка, ещё пополнела, но не потеряла своей привлекательности.
– Развожусь я со своим Дементьевым, – жалуется она. – Уже который год. И всё никак. На суде скулит он: люблю жену, дочь. И я как-то особо не высовываюсь. Всё терплю. А чего терпеть? Не люблю, кто пьёт. Пить пей, но стой! Не падай! Люблю стоячих мужиков. А раз упал – это не мужчина. Как с таким жить?.. Ты где сейчас?
– На двести километров западнее вас…
Я брёл в гостиницу и поймал себя на том, что думал о Лильке. Мой чудный нераскрытый цветок… Ничего б не было странного, столкнись я сейчас с нею. Я ничуть не удивился бы. Её ж дом в трёх сотнях шагов от «Тулы».
И всё свертелось, как в глупом сне. Навстречу мне шла Лилька!
Ахи, охи, шумные вздохи…
Лилька уставилась на мой забинтованный указательный палец:
– Что с ним?
– Бытовая авария. Срезал дома мясо с кости и чуть не счесал подушечку пальца. Залил йодом и побежал в медпункт. Там тоже удивились: «Что же вы? Надо резать мясо, а не пальцы». Я отшутился: «На шашлык немного не хватало».
– У меня рацпредложение. Айда к Борисовне на шашлыки.
– Кто эта Борисовна?
– Уже забыл? – Она брезгливо поморщилась. – Моя матуня…
– А-а… Чем она занимается?
– Держит кассу ресторана! Кассир.
– А ты что же? Не работаешь?
– Почему же… Прею всё в той же библиотеке. Я объясню начальнице нечаянный уважительный прогул. Она поймёт и наверняка даст ещё отгул за прогул.
– Как ты живёшь, Лика?
Она потемнела в лице.
– Лучше спроси об этом Борисовну. Пусть она поковыряется в носу на эту тему…
– У тебя нелады с матерью?
– А откуда взяться этим ладам?.. Ну… Помнишь фильм «Ко мне, Мухтар!»? Собака там схалтурила, потеряла след.
– Ты хочешь сказать, что и я схалтурил, потеряв твой след? Я не терял…
– Это я схалтурила, когда по молодости-глупости целиком поддалась Борисовне. Выпихнула замуж чёрте за кого… И теперь я такая тебе вовсе не нужна. У меня слишком большое приданое. Наташка! Ей полтора годика… Мы с ним не живём…
– Ты его любила?
– Его любила Борисовна. Она очень хотела выдать меня замуж. Два месяца покупал он мне шоколадки. А потом перестал: мы расписались.
Я заплатил Борисовне за бутылку шампанского, за три шашлыка.
Столик она выбрала нам поближе к кассе.
В свободную минуту Борисовна тихонько, бочком подсаживалась к нам. Вид у неё был виноватый.
После первого бокала Лилька захмелела.
– Лиль, – сказала ей мать, – не пей больше. Хватит.
– Борисовна, – обращается к ней Лилька, – а Анатолий Никифорович не верит, что я была замужем. Верил, что ты уж убережёшь…
Борисовна повинно буркнула:
– Толя… Вы же уехали…
– Так я и приехал.
– Борисовна, – говорит Лилька, наливая шампанского в свободный бокал, – выпей с нами. Ты заслужила…
Борисовна пригубила и тут отставила бокал в сторону.
Лилька поясняет мне:
– Борисовна всё время возилась с Наташкой. Когда станет невмоготу, недовольно кричит мне: «Лильк, иди возьми!» Девочка запомнила это. Теперь она мою мать, свою бабушку, зовёт мамой, а мне выкрикивает изредка: «Лиля! Лиля!»
– Чего же вам не жить? – спросил я Лильку.
– Пьёт.
– А ты до свадьбы не знала?
– Не успела рассмотреть.
– Мужики ухари. Живут с одними, а в жёны берут других.
– Ка-ак везёт лёгким девицам. Везло бы так порядочным…
– Эстафетная палочка[276] крутится с сотней. Она-то знает толк в мужиках. Заплыл в сети стоящий карась – не сорвётся с крючка. Она может себя подать. Найдёт средство, как приручить его. Ещё пять лет назад наши дела с тобой сложились бы совсем иначе, покажи ты, что действительно любишь. А то… Мамаша внаглую навяливала тебя, как дурочку какую.
– Я боялась… сразу…
– Можно было по частям.
– Издеваешься? Я люблю тебя за ум. У тебя красивый голос…
– Всё это частности.
– А теперь я такая тебе не нужна.
– Не решай за меня. Если я почувствую серьёзность, я на всё плюну… А ты…
– Если хоть бы раз в год писал… Какая-то была б надежда… А то ж ничего… Никаких обещаний…
– Да, заранее я векселей не выдаю. Но если дам… Это уже другой распев.
Гостиница. Три часа ночи.
Не могу заснуть. Закрою глаза – мерещится немыслимо что.
Я собрался и пешком пошёл по ночной Туле к вокзалу.
23 декабря
Комсомольский артналёт
Сегодня на ТАСС был совершён артналёт.
Комсомольский.
Проверяли приход-прибег в службу доблестных труженичков пера.
Я прожёг мимо бдительных комсомолюг в 8.35, Сева – в 8.58, Мила Панченко – в 8.59.
Влетела, на последних силах добрела до своего стола и замертво рухнула на стул и на стол. Судорожно дыша, кое-как пришла в себя.
– Это ужас! – заговорила Мила. – Со мной по-божески ещё обошлись. А парня – бежал за мной – тормознули. «Извините за внимание, – вежливо цедят сквозь зубы. – Ваше удостоверение!» Берут удостоверение и что-то начинают записывать в свой талмуд. Парень взбешён. Кричит: «Ну чего записывать? Чего? Так ещё ж нет девяти! Объяснитесь!» – «Если начнём объяснять, вы точно опоздаете! Идите быстрей». А у следующего за ним мужика отобрали удостоверение: шли первые секунды десятого часа. Ну не хамство?
– Не понимаю этой жестокой бдительности, – пускается в рассуждения Сева. – За-чем? Абсолютно никому не интересно, что от такого обращения пропадает настроение, не хочется работать. День без дела, зато прилетай к девяти! За-чем? Чтоб ровно в девять, без опоздания, человек шёл в коридор покурить? Это и вся цель всего этого артналёта? На курение мы могли бы делегировать лишь Аккуратову, она одна у нас в отделе курит. Так её всё нет. Придёт часа через два, когда бдительные разбегутся к своим кормушкам. Её такого царского опоздания никто не заметит, она будет в ангелочках…
Входит Ржешевский.
– Погорел я, братове… Вырвали пропуск. Опоздал на десять минут! «Спасибо за беспокойство!» – поблагодарил я их. «Пожалуйста! Пожалуйста! – отвечают. – И не держите на нас сердца. Мы не какие-то тут кастраты. Мы живём вашими молитвами. Молимся за каждого опоздавшего…». Я с подковырой: «Наверное, у вас на коленях мозоли?»– «У нас нашиты на коленях подушечки». – «Однако вы ушлые рационализаторы!»
– Самое занятное, – подал голос еле отдышавшийся Бузулук, – комсомольцы на тринадцать минут завалили замгендира Вишневского. Они у него тоже вырвали пропуск?
Этого никто не знал.
Как Севка и обещал, Татьяна появилась ровно в одиннадцать.
– Здрасьте, Татьяна Валентиновна! – с ядовитой улыбкой поздоровался Севка. – С опозданьицем вас? У вас ничего не вырвали?
– А кто и что должен был у меня вырвать? – подивилась Татьяна.
– Видали! На два часа опоздала и – ничего! А люди на секунды пришли на работу после девяти – остались без удостоверений! Ползай теперь по высоким кабинетам на брюхе… Оправдывайся… Почему ты сегодня опоздала?
– Сев, ты не поверишь, до каких глупостей докатилась эта дурочка из переулочка! – хлопнула себя Татьяна по груди. – Умер У Тан.[277] Я и намечтала, что именно мною его заменят. Но сегодня уже объявили, что на его место сунули какого-то австрияка! Я всё ждала, что меня не обойдут. Да обошли! Как только узнала я это по радио – сразу поехала сюда.
– Спасибо! Уважила!
– А у вас, Сев, посмотрю, нет даже сегодняшних газет.
– У нас горе, Таньк… Оплакиваем облаву тассовских комсомольцев на опоздунов. Некогда было прогуляться в секретариат за газетами.
– Пойду-ка я прогуляюсь в этот секретариат, – сказала Татьяна и вышла.
Скоро она сидела в коридоре за столиком. Курила и просматривала газеты.
Первым это заметил Молчанов и доложил нашему ёбществу:
– Какая наглость! Эта фенечка сидит на газетах и читает. Прочитала – суёт назад под свой банкомат.[278] Прочитала – опять под банкомат! Я придумал, как снять эту курицу с гнезда, – и дуря заорал, приоткрыв дверь: – Аккуратова! Тебе твой законный грек звонит!
Татьяна кинулась к телефону.
Валька рванулся ей навстречу, сгрёб газеты и вальнул Севке на стол.
В газетах ничего интересного. Марину зацепило лишь одно:
– А Солженицын всё-таки был на похоронах Твардовского. Хотя они и в контриках… Шикарно был одет… Конечно, за такими спинами будешь шикарничать. Его спина – Ростропович.
– Конечно, – грустно сказал Севка, надо бы сегодняшний день объявить днем ударной работы. Но не хочется, раз так нас шмонают.
И снова шелестят все газетами.
– Прибежал Медведев:
– Я стойко приветствую, – вскинул он руку, – передовой народ краснознамённой редакции!
– О! – обрадовалась Татьяна. – Явление Христа народу!
– У вас свежо! – говорит Медведев. – А Ермакова твердит, что у Татьяны одежда воняет табачищем. Ничего подобного. Зато вот у нас! Рождественская, Иванов смолят в две трубы! Но это ещё ничего. А у Колесова… Вот где куриловка! Захожу – его не видно. Одни глаза блестят.
– К нам, – пожаловался Севка, – забегает одна чадящая труба. Жена бывшего парторга Новикова Лидуня. Я спрашиваю, тебе муж разрешил открыто курить?[279] Как парторг спит с такой пепельницей в одной постели? Он же чистюля и запаха сигарет не выносит. Смеётся: «Спроси у него. Ко мне у него претензий нет».
– Я вот чего пришёл, – сказал Медведев. – Другие редакции заваливают наш выпуск заметками. Выпуск плавает брассом. Но почему нету ваших заметок?
– У нас траур, – печально покачал головой Севка. – Оплакиваем успешный отлов опаздывающих комсомолятами.
– За чужой счёт не выживете… Тут не отыграешься, как Ворошилов… Вспомнился самый смешной случай с Ворошиловым. Это было на моих глазах. Случай из моей практики. На сессии вручали Российской Федерации орден Ленина. Приветствие зачитывал Ворошилов. Прочитал несколько фраз, покашлял и сказал: «А остальное прочтёте завтра в газетах». Все радостно захлопали. Вам же хлопать никто не будет. Оплакали своих опоздунов, слёзки вытерли, передохнули, а теперь за дело, орденоносцы! Желаю успехов!
– Да, – значительно сказал Сева. – Заметок, которых мы не сдадим сегодня на выпуск, завтра в газетах не прочтут. А это нехорошо. Нельзя подводить самую читающую страну в мире! Ну что? Сделаем лирическое отступление в сторону трудового всплёска? Объявляю сегодняшний день ударным рабочим днём! Работнём, панове! – и мёртво уставился на Бузулука, говорил по телефону.
Марина тоже не может наглядеться на Бузулука, разводит руками:
– Ну что он так орёт?! Дома, наверное, тише мышки. Потому что Лиза сразу даст в глаз.
Молчанов наставил строгий палец на Бузулука:
– Сокращайся! Кончай разбазариваться! Когда в тебе совесть проснётся на эту тему? Не слышал, что объявлен сегодняшний день рабочим?
Бузулук кивает: всё-де слышу, закругляюсь и в трубку:
– К острому сожалению, у нас тут Псевдолабиринтович объявил пожар последней степени. Кончаем кофемолить.[280] Одним словом, хорошо уговариваешь. Записывать надо. Надо выделить вам Пимена, летописца на полставки из РПЭИ. Но особо Пимена не жди. Сам! Делай сам! Написал материал хорошо, но сухо, деловито. Надо разгуляться где-то в середине. Сделай отступление в сторону репортажности. Оживляж нужен. Укажи хоть каких конкретных Кошкина-Собачкина, всё живей закрутится. Надо потихоньку раскочегариваться. Кончай с творческим климаксом![281] Найди приёмы какие-то, человеческие чёрточки. Нужны не только экономические выкладки, но и какие-то человеческие жилки. Не наступай себе на горло. А то задушишь себя. Не спеши. Созидай!
Олег кладёт трубку и насыпается на Молчанова:
– Ну чего ты кипишь? Успокойся… Выпей воды…
– Это ты пей воду, а я пойду пить водку.
– От твоих давешних глупых расспросов скоро станешь адиётом.
– Тебе не надо становиться идиотом, – окусывается Валька. – Ты уже идиот. Сегодня – рабочий день! Вкалывай! На дворе мрак. Сплошной снег. Поезда ходят впотьмах. Но ходят! И ты давай… Кончай стихийный бунт. Кончай блудить в темноте!
– Ну это ты кончай под меня рыть. А то мышка рыла, рыла и дорылась до кошки!
Уже через какой час Сева заныл:
– Я плыву… Откуда у вас у всех заметки? И всё несут, несут! Я вам такой прыти не заказывал. Папка полна. Не успеваю читать. Охладите молодцовский пыл, сбросьте обороты…
Я кладу ему на стол отредактированную заметку и возвращаюсь к своему столу.
Марина:
– Толя, пока не сел открой форточку.
– Ладно… Ты сидишь у окна. Как ты переносишь перепады температуры?
– Я тепло одета.
– А уши? Голова?
Молчанов хмыкнул:
– А зачем ей голова?
Марина делает вид, что не слышит этой колкости, и тянет своё:
– Суконцев. Наверное, слыхали? Это фельетонист в «Правде». Так он пишет лёжа.
Марутов деланно вскрикивает:
– Что вы! Я ни разу не читал его сидя.
– Так вот он как зальёт радиатор, так на стенку хочет лезть. Как эта болезнь называется?
– Стенокардия! – выпаливает всезнайка Марутов.
Татьяна толкает меня в локоть:
– Толенька, ты нашёлся?
– Как видишь…
– А вчера почему тебя не было?
– Тебе скажи, ты и знать будешь!
– А всё же?
– Ну… Примёрз к дивану. Сегодня еле отодрался.
Она дёргает носом:
– Какой-то запах… Или самовозгорание где?
– Не переживай. Самовозгорание у нас возможно только от любви…
Трёп обрывается. Все воткнулись в газеты.
– Знаешь, – тихонько говорю я Татьянке, – вчера я встречался со своим бывшим хозяином, койку когда-то у него снимал. Занятную штуку он выворотил! Он и раньше мне про это говорил… Оказывается, и ты, и я были тассовцами ещё задолго до нашего появления на Тверском, десять-двенадцать. Мы и не думали ещё переступать порог ТАССа, а уже были тассовцами!
– Какая-то байда на кривой палочке! Чистый пурген![282]
– Я тоже так сперва думал… Он как раскладывает пасьянс? Со своего рождения, твердит он, и до смерти всякий у нас является тассовцем! Люди общаются, обмениваются новостями всякими. Житейскими, новостями страны. Чем каждый человечек не ТАСС в миниатюре?
– Гм… Тут что сверкнуло…
– О! – вскинул руку Молчанов. – «Советская торговля» дала моды на следующий год. Юбки теперь будут носить длинные! Ну, – тычет пальцем в Бузулука, – ты допился до своего? Длинные юбки будут в моде! Тебя это не колышет?
– Только да… От этой новости грусть меня грызёт. Хоть я не кость и не собака…
– Прощайте, милые женские коленочки, – припечалился я.
– Ну и ну, – вздохнула Марина. – Теперь вслепую придётся играть.
Сева внёс руководящую ясность:
– Когда играли в светлую, всё равно темно было.
Татьяна серьёзно, как умная Маня, принимает ингаляцию[283] в коридоре. Пепел стряхиват в газетный кулёчек. Затягивается с остервенением. Жутко видеть.
– Тань, – говорю ей. – Один умный дядечка сказал: «Курить бросают все – умные ещё при жизни». А ты не пробовала бросить союзить?[284]
– Пробовала и не раз. Больше не буду и пробовать. Дохлый же номер! Собачий сон!
А я вот сумел бросить в тринадцать лет.
Вспоминается то розовое время безалаберности…
Избирательность памяти коварна.
Не помню я ни лица, ни имени учительницы, научившей читать, писать. Зато расхорошо помню другого своего первого учителя. По курению. Точно вчера с его урока.
Васька!
Лохматый двадцатилетний лешак. Таскал и в лето и в зиму неизменно по две фуфайки. Всаживал одну в одну. Как матрёшки. И круглый год бегал в малахае. Это-то на Кавказе! (Дело пеклось в местечке для репрессированных выселян Насакирали, на самой макушке Лысого косогора.)
Васька был большой бугор (начальник).
А я маленький.
Васька пас коз, я пас козлят. С мая по сентябрь, конечно. В каникулы.
В рабочей обстановке мы не могли встречаться, хотя производственная необходимость в том и была. Сбежись наши стада, это чревато… Вернутся козы домой без молока.
У Васькиных коз и у моих козлят были прямые родственные связи. Как говорил Васька, это была кругом сплетённая родня.
Однако в обед, когда наши табунки порознь дремали в прохладе придорожных ёлок, мы с Васькой сходились на бугре. Третьим из начальства был Пинок, важный Васькин пёс с добрым лицом. Всегда держался он справа от Васьки. Был его правой рукой.
Козы были по одну сторону бугра, козлята по другую. Они не видели друг друга. Зато мы с Васькой видели и тех и других. У хорошего пастуха четыре глаза! И если уж они паче чаяния кинутся на сближение, им другого пути нет, как только через наши трупы.
Ну разве мы допустим их воссоединения?
И вот однажды в один из таких обеденных перерывов – было это в воскресенье тринадцатого июля 1952 года – мы сошлись. Запив полбуханки глиноподобного кукурузного хлеба литром кипячёного молока из зеленой бутыли, посоловелый Васька – а было так парко, что, казалось, плавились мозги, – разморенно вставил себе на десерт в угол губ папироску. С небрежным великодушием подал и мне.
Я в страхе попятился. Спрятал руки за спину.
– Ты чего? – удивился Васька. – Кто от царского угощенья отпрыгивает по воскресеньям?
– Я не к-кур-рю… – промямлил я оправдательно.
– А-а! – присвистнул Васька. – Вон оно что! Мамкин сосунчик! Долго ж тебя с грудного довольства не спихивают. Сколько тебе?
– Тринадцать.
– Уже всейно тринадцать! – Васька в панике пошатал головой. – Какой ужас!.. Во! – Васька щёлкнул пальцем по газете, в которую был завернут оставшийся после обеда шмат чахоточно-желтого кукурузного хлеба кирпичиком. – Вон шестилетний индонезийский шкеток Алди Ризал в день выкуривает по сорок сигаретин! Учись! О мужик! А ты?.. Тоскливый ты кисляй…
Васька лениво мазнул меня пальцем по губам.
Брезгливо осмотрел подушечку пальца. Вытер о штаны.
– Мда-а… Молочко ещё не обсохло. Мажется, – трагически констатировал он. – Несчастный сосунчик!
Это меня добило.
Я молча, с вызовом кинул ему раскрытую ладошку.
Он так же молча и державно вложил в неё «ракетину».
– Хвалю Серка за обычай. Хоть не везёт, дак ржёт! – надвое выпалил Васька.
Что он хотел этим сказать? Что я, дав вспышку, так и не закурю? Я закурил. Судорожно затянулся во всю ивановскую. Проглотил. И дым из меня повалил не только из глаз и ушей, но и изо всех прочих щелей. Я закашлялся со слезами. Во рту задрало. Точно шваброй.
– Начало полдела скачало! Всё пучком! – торжественно объявил Васька. И мягко, певуче вразумил: – Всякое ученье горько, да плоды его сладки…
– Когда же будет сладко? – сквозь слёзы просипел я.
– Попозжей, милок, попозжей, – отечески нежно зажурчал его голос. – Не торопи лошадок… Надо когда-то и сначинать… А то ты и так сильно припоздал. Это несмываемый позор, – в нежном распале корил Васька, любя меня с каждой минутой, похоже, всё круче, всё шальней. – В тринадцать не курить! Когда ж мужиком будем становиться? А? В полста? Иль когда вперёд лаптями понесут? И вообще, – мечтательно произнёс он, эффектно отставив в сторону руку с папиросой, – человек с папиросиной – уважаемый человек! Кум королю, государь – дядя!.. Человека с папироской даже сам комар уважает. Не нападает. За своего держит! Так что кури! Можь, с куренья веснушки сойдут да нос перестанет лупиться иль рыжины в волосе посбавится… Можь, ещё и подправишься… А то дохлый, как жадность. Вида никакого. Так хоть дыми. Пускай от тебя "Ракетой" воняет да мужиком! – благословил он.
А я тем временем уже не мог остановиться.
Прикуривал папиросу от папиросы.
Васька в изумлении приоткрыл рот.
Уставился на меня не мигая.
– Иль ты ешь их без хлеба? – наконец пробубнил он.
Он не знал, то ли радоваться, то ли печалиться этаковской моей прыти.
На… – ой папиросе у меня закружилась голова.
На… – ой я упал в обморок.
Васька отхлестал меня по щекам.
Я очнулся и – попросил курева.
– Хвалю барбоса за хватку! – ударил в землю он шапкой. – Курнуть не курнуть, так чтобы уж рога в землю!
До смерточки тянуло курить.
Едва отдохнул от одной папиросы, наваливался на новую. Мой взвихрённый энтузиазм всполошил Ваську.
– Однако… Погляжу, лихой ты работничек из миски ложкой. Особо ежли миска чужая… По стольку за раз не таскай в себя дыму. Не унесло бы в небонько! Держи меру. Не то отдам, где козам рога правют.
Не знаю, чем бы кончился тот первый перекур, не поднимись козы. Пора было разбегаться.
– Ну… Чем даром сидеть, лучше попусту ходить. – Васька усмехнулся, сунул мне пачку "Ракеты". – Получай первый аванец. Ребятишкам на молочишко, старику на табачишко!
Пачки мне не хватило не то что до следующего обеда – её в час не стало.
На другой день Васёня дал ещё.
– Бери да помни: рука руку моет, обе хотят белы быть. Ежель что, подсобляй мне тож чем спонадобится.
Я быстро кивнул.
Каждый день в обед Васёня вручал мне новую пачку.
Так длилось ровно месяц. И любня – рассохлась!
Я прирученно подлетел к Васёне с загодя раскрытой гробиком ладошкой за божьей милостынькой.
Васёня хлопнул по вытянутой руке моей. Кривясь, откинул её в сторону и лениво посветил кукишем.
– На́ тебе, Тольчик, дулю из Мартынова сада да забудь меня. Ну ты и хвостопад![285] Разоритель! Всё! Песец тебе!.. Испытательный месячину выдержал на молодца. Чё ещё?..
– Чирей на плечо! – хохотнул я.
– Перетопчешься! Ноне я ссаживаю тебя со своего дыма… Самому нечего вота соснуть. Да и… Я не помесь негра с мотоциклом. Под какой интерес таскай я всякому сонному и встречному? Кто ты мне? Ну? – Он опало махнул рукой. – Так, девятой курице десятое яйцо… Я главно сделал. Наставил на истинно мужеский путь. Мужика в тебе разбудил… Разгон дал! Так ты и катись. Наверно, ты считаешь меня в душе быком фанерным…[286] Считай. Меня от этого не убудет. Добывай курево сам! Невелик козел – рога большие…
Этот его выбрык выбил меня из рассудка.
– Василёк!.. Не на что покупать… – разбито прошептал я.
– А мне какая печалька, что у тебя тонкий карман? Меня такие вещи не прокатывают! Крути мозгой. Не замоча рук, не умоешься… Ты про бычарики[287] слыхал?
Стрелять хасиков[288] у знакомых я боялся. Ещё дошуршит до матери. Стыда, стыда… К наезжим незнакомцам подходить не решался. Да и откуда было особо взяться незнакомцам в нашей горной глушинке?
А подбирать чужие грязные обкурки…
Ой и не царское ж это дело, Никифорович!
Не получив от Васьки новой пачки, я в знак вызова – перед гибелью козы бодаются! – двинул зачем-то козлят в обед домой. В наш посёлочек в три каменных недоскрёба.
Уже посреди посёлка мне встретилась мама.
Бежала к магазинщику Сандро за хлебом.
Я навязал ей козлят. А сам бросился в лавку.
Радость затопила душу. В первый раз сам куплю! Накурюсь на тыщу лет вперёд! Про запас!
Денег тика-в-тику.
На буханку хлеба да на полную пачку "Ракеты"!
– Нэт, дорогой мой, – сказал мне грузин-магазинщик, – "Ракэт" ти нэ получишь. «Ракэт» я отпускаю толко лебедям… Двойешникам. У ных ум нэту, на ных паршиви "Ракэт" не жалко. На тбе паршиви "Ракэт" жалко. Ти отлишник. У тбе чисты ум. Ти настояшши син Капказа! Син Капказа кури толко "Казбеги"!
Я считал, что я вселенское горе горькое своих родителей. А выходит, я «сын Кавказа» и должен курить только "Казбек"! Чёрт возьми, нужен мне этот "Казбек", как зайцу махорка!
Да выше Сандро не прыгнешь. И вместо целой пачки наидешевейшей, наизлейшей "Ракеты" он по-княжьи подал мне единственную папиросину из казбекского замеса.
Чтобы никто из стоявших за мной не видел, я обиженно толкнул папиросу в пазуху и дал козла. Быстрей ракеты домой. Только шишки веют.
Папироса размялась. Я склеил её слюной. Бухнулся на колени, воткнул голову в печку и чумово задымил. С минуты на минуту нагрянет маманя с водой из криницы в каштановом яру. Надо успеть выкурить!
Едва отпустил я последнюю затяжку – бледная мама вскакивает с полным по края ведром.
– А я вся выпужалась у смэрть… Дывлюсь, дым из нашой трубы. Я налётом и чесани. Заливать!
Она обмякло усмехнулась.
С нарочитой серьёзностью спросила:
– Ты тута, парубоче, не горишь?
Я сосредоточенно оглядел себя со всех сторон.
Дёрнул плечом:
– Да вроде пока нет…
Мамушка смешанно вслух подумала:
– Откуда дыму взяться? Печка ж не топится…
И только тут она замечает, что я стою перед печкой на коленях.
– А ты, – недоумевает, – чего печке кланяешься?
– Да-а, – выворачиваюсь, – я тоже засёк дымок… Вотушки смотрю…
Мама нахмурилась. Подозрительно понюхала воздух.
– А что это от тебя, як от табашного цапа, несёт? – выстрожилась она.
– Так я, кажется, не розы собираю, а козлят пасу.
– У тебя невжель козлята курят?
– Это спросите у них.
Еле отмазался.
Так как же дальше?
Переходить на подножный корм? Подбирать топтаные басики?[289] Грубо и пошло. Не по чину для "сина Капказа". Покупать? А на какие шиши? Надо бросать с курением!
Папироска из пачки с джигитом в папахе и бурке была последняя в моей жизни. Была она ароматная, солидная. Действительно, когда курил её, чувствовал себя на полголовы выше.