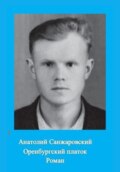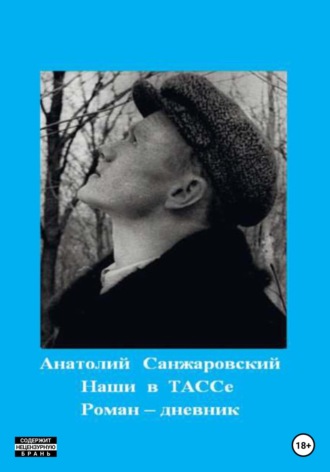
Анатолий Никифорович Санжаровский
Наши в ТАССе
7 января
Трёп коромыслом
Сияющая Татьяна потрясла над головой «Трудом»:
– Всем объявляю строжайший выговорешник! Почему не прочитали мне эту заметку? – И торжественно читает: «Наверное, лучше многих других традицию эту могли бы объяснить женщины племени тораджи с индонезийского острова Сулавеси. Здесь считается модным отсутствие передних зубов. И хотя власти запретили этот варварский обычай, местные модницы продолжают упорствовать. Они тайком уходят в джунгли и с помощью камня выбивают себе передние зубы». Во! А я ни в какие джунгли не бегала, камнями не лупила себя, а ела новогоднюю курицу и сломала зуб! Хочу в джунгли в командировку! И командировочные чтоб пять двадцать. Как в «Литературной газете».
Медведева нет. На планёрке.
Трёп у нас в комнате стоит коромыслом.
Бузулук с улыбкой показывает Калистратову кулак:
– Сьева! Я не ожидал позавчера от тебя такого коварства. По части шахмат.
Сева грозит руководящим пальчиком:
– За твою неорганизованность я буду пилить тебя каждый день!
– А в выходные чем займёшься? – окусывается Олег. – Будешь точить пилу? Или прогул себе запишешь?
Я подымаю обе руки:
– Господа плюс товарищи! Настало время раздать вам дуэльные пистолеты.
– На дуэль – в коридор! – командует Татьяна и продолжает вырезать статьи из «Литературки».
Ворох ненужных бумаг подняла она перед собой и трубно докладывает Новикову:
– Глянь, Вовк, сколько настригла!
– Пожалуйста, без комментариев! – мрачно бросает из угла Молчанов. Он пишет.
Руководящая чесотка раздирает Севу. По всякой пустяковой правке отредактированной мной заметки он поучает меня. И причина вроде уважительная:
– Мне хочется передать тебе свой богатый опыт работы с тассовской информацией.
На последнем терпении я мотаю на ус болтовню.
Через день-два эта учёба заставит меня лезть на стену.
Всё впереди.
Вечером я дружинник. Со мной ещё двое наших. Куликов и Белов.
Узнав, что я вышел на дежурство в первый раз, говорят мне:
– Мы линяем по домам. А ты в 21 час придёшь и распишешься за нас. А до этого часа иди гуляй где хочешь.
Я посидел в зале периодики Главной библиотеки.
За себя я расписался. А за тех парней не дали.
12 января, понедельник
Объяснительная
Бегу на работу вприпрыжку. Так мне хорошо.
А хорошего-то ничего. Только сегодня узнал, что должен был я дежурить вчера на главном выпуске. Да запамятовал.
Вызвал Фадеичев и велел рисовать объяснительную.
Я такие штуки ни разу не писал.
– Ну чего ты, пане, повесил нос? – тряхнул Олег меня за плечо. – Садись рядом. Я помогу. Уже штук шесть нарисовал. Поделюсь опытом.
Он пишет от моего имени.
Заместителю главного редактора ГРСИ
Фадеичеву Евгению Михайловичу
от литсотрудника РПЭИ Санжаровского А.Н.
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В воскресенье 11 января я должен был по графику дежурить на главном выпуске ГРСИ. Безусловно, я бы вышел на дежурство, твердо знай, что должен быть там. К сожалению, я впервые об этом запамятовал. И вот почему. Накануне два дня у меня были заняты освещением актива геологов страны. Я впервые писал о таком крупном событии, я боялся упустить самую аленькую подробность. В пятницу поздно вечером на активе выступил Секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Соломенцев. Я устал. У меня не хватило сил приехать в редакцию. Сверки, передача, дальнейшие уточнения деталей отняли у меня не только много времени, но и сил. В результате я не смог приехать в редакцию и восстановить в памяти известие о том, что в воскресенье у меня дежурство на главном выпуске (оно лежало на моем столе). Обещаю, что этот первый нечаянный случай нарушения трудовой дисциплины будет у меня и последним.
Олег торжественно прочитал мне своё творение и спросил:
– Ну как? Этот всепланетный плач народов пойдёт?
– Хыр-р-рошо!
– Писал ведь опытный нарушитель дисциплины. Стреляный воробей и не раз битая собака. Ничего, старик. Крепись! «Человек не становится меньше оттого, что ему отрубают голову».
– Спасибо. Утешил.
Приказом за подписью одного из замов Лапина мне отстегнули замечание.
Секретарь Лидочка принесла мне этот приказ на подпись.
Я заартачился:
– Ваши шишки собирать!? Не буду. За месяц тащите график на подпись! За месяц можно забыть даже как тебя зовут! Почему б за неделю до дежурства не предупредить?
– График составляют Колесов и Беляев. Говори с ними.
Я к Беляеву.
– Ничего, Толь! – охлопывает он меня по спине. – Вон Смолин тоже чуть не получил выговор на невыход на дежурство. Забыл тоже. Но ему позвонили и он пришёл. А у тебя нет дома телефона… Не ты первый накалываешься…
Я схватил толстый карандаш для правки и зло и размашисто в пол-листа кручу всего четыре буквы.
Приказ провисел в коридоре всего один день.
Бузулук сочувственно пожал мне руку:
– Свою ненависть к администрации ты доходчиво выразил в своей подписи. Только слишком рьяно не дерись с начальством. А то оно быстренько прижмёт тебе морковку дверью.
А Молчанов подбодрил:
– Чтоб волков не бояться, надо спортом заниматься!
2 февраля, вторник
Новый прокол
Я бодр. Радостен. На душе легко.
Ещё нет девяти. Влетаю на выпуск Б с заметкой.
И тут Денисович плеснул на меня ушат холодной воды:
– Вы почему в субботу не дежурили на главном выпуске?
– Я очумело разинул рот:
– Разве я должен был дежурить?
– Посмотрите на график. Там ваша подпись.
Лечу на А. Ну да, моя. Я же дежурил в четверг вечером. Видел эту подпись. И почему не положил на неё внимания?
Фадеичев, оторвавшись от вычитки текста, лениво так, с подковыром любопытствует:
– Вы почему снова не дежурили?
– Я… Я… Я … болел…
Наконец вырулив на болезнь, я отважистей гахнул:
– Ну да! Болел! Вот!
– У вас больничный?
– Н-нет… Будет… Тут… Было до тридцати холода. Хозяйка уехала к брату на квартиру. Он в отпуске на юге… Я один топил печь в частном доме… Плохо себя чувствовал… У меня нет телефона. А до первой телефонной будки с полкилометра… Я не мог позвонить ни на выпуск, ни в скорую…
– И некому было сходить за вас?
– Некому. Я живу один там недавно. Никого не знаю.
– Пишите объяснительную.
Я помялся и, расстроенный, ухожу.
Моя каша опечалила Бузулука. Он сосредоточенно почесал спину, ничего вразумительного не посоветовал.
Я съездил в килькино министерство за материалами по завтрашней коллегии. Возвращаюсь – из тёмного угла улыбается довольный Медведев. Он пока ничего не знает. Всю прошлую неделю он с Колесовым и Смирновой был на кустовом совещании в Риге.
Я бочком подсел на медведевское исповедальное кресло и пробормотал:
– Александр Иванович… Спасите мою душу… В субботу я заболел и не мог выйти на дежурство. Я и сейчас плохо себя чувствую…
– Плохо чувствуешь? А чего вышел? Тут жертвы не нужны.
Получаю я деньги, а Бузулук – стоял за мной в очереди – шепнул:
– Окапиталился… Давай слиняй на недельку. Поболей на здоровье!
Медведев был на планёрке.
Я к Новикову.
Он только вчера вышел из декретного отпуска. Ждал мальчика, а жена родила девочку. С горя Владимир Ильич прихворнул на целых две недели.
– Володь, – говорю, – я плохо себя чувствую. Если не приду завтра, значит, я болен.
До метро я шёл с Артёмовым. Он всё утешал меня:
– Ничего. Я поговорю с Сашей Медведевым и с Фадеичевым. Я дежурил в субботу. В шахматы играли. На выпуске ты и не нужен был. В шахматы-то не играешь.
В кожном диспансере я с порожка аварийно заныл:
– Доктор! Положите с моими грибками на ногтях в больницу. Сегодня или никогда!
– К чему такой пожар? У нас ведь очередь. Направление я сейчас напишу. Позвоните завтра.
По пути домой меня занесло в 71 поликлинику.
В регистратуре со мной говорить не хотят. Никакой конкретной жалобы! И главное, говорят, вы не нашего района.
– Ну хоть несчастную температуру можно измерить у вас американскому лазутчику?
– Это всепожалуйста.
Сунул я градусник под мышку, сижу на кушетке и слегка мечтаю прихворнуть. Мне очень этого хочется. Иначе – могила. В полном здравии могила!
И происходит невероятное.
По горячей просьбе трудящегося в меня вселяется моя желанная хвороба. Я крепче прижимаю к рёбрам градусник и шепчу ему:
– Работать! Работать без дурандеев! Спасай, шкалик ты мой красненький!
Сестра протянула ко мне руку:
– Покажите. Пора.
– Он ещё не согрелся! – буркнул я.
– Тут не забегаловка. Если у вас тридцать пять, то на нём не будет сорок!
– Это ещё ка-ак сказать…
Я вынул градусник из-под мышки и подскочил визжа:
– Тридцать семь и четыре! Тридцать семь и четыре!!
– Вам плохо?
– Мне слишком хорошо, милая сеструнечка!
И тут же спохватываюсь:
– Не столько хорошо, сколько плохо…
Сияя, я лечу в регистратуру:
– У меня температура! Тридцать семь и четыре! А вы даже талончик не даёте к врачу!
– Идите к главврачу. Примет сама – выпишу.
Главврачу я сказал:
– Хотя я не ваш, но знаю, вы поможете мне.
– Что значит не наш? Чужих больных не бывает!
– Я тоже так считаю. Я недавно переехал в Кусково. Я пока не знаю, где моя родная поликлиника. Я смог добраться лишь до вас. У меня температура. И она поднимается пропорционально времени, проведённому здесь. Помогите! Мне так плохо, если б вы только знали!
– Что у вас болит?
– Не знаю, что сказать… Э-э… Знаете, у меня голова…
– Что голова?
– Не то горячая, не то чуть тёплая…
– Это ещё не всё потеряно.
– Но и ничего не найдено!
Я постучал костяшкой пальца по столу. Мне стало как-то совестно. Я не мог врать. Опустил глаза.
Она стала прислушиваться ко мне через резиновую трубочку.
– Дышите… Глубже.
– Это можно.
– Не дышать!
– Доктор! Мне на работе не дают дышать… Вы гуманны… Ещё Чехов…
– Вы были сегодня на работе?
– Что был… Что не был…
Я должен хрипеть для пользы дела. Вся надежда на беду в лёгких. Похоже, хрип не прорезался. И я очень отчётливо хрюкнул. Переборщил. И от досады покраснел.
Она тоже покраснела.
«Человек, не потерявший способности краснеть, не лишён чувства гуманности».
Она сжала упрямые тонкие губы:
– Что вы хотите?
Я решился рассказать ей всю правду:
– Утром я был…
Она перебила:
– Вы были у нас и вас не приняли?
– Да…
– И вы думаете, вечером проще? Уже восемь. А вы, больные, всё идёте, идёте, идёте…
– Мда-а… Не зарастает сюда тропа. И не зарастёт!
– Скажите, вы когда-нибудь болели?
Я пыхнул:
– А почему вы думаете, что я сварен из кварца и доломита?
– По крайней мере, об этом думаешь, когда смотришь на вас.
– Спасибо за откровенность. Я буду до конца джентльменом и не скажу, о чём думается, когда смотришь на вас.
– О камне.
– Хотя это и недорогой строительный материал, однако вам лучше знать себе цену.
– Так когда вы болели?
– Не далее… как… назад… Знаете, такой импортный гонконгский…
– Вернулся снова.
– Для закрепления? – усмехнулся я. – «Повторенье- мать ученья»?
– А этот грипп мы проходили так, галопом по Европам, – почему-то призналась она и покраснела.
– Это уже зря. Грипп опасен. Вон от него вчера умер Бертран Рассел. А не захочет ли мой организм увязаться за ним?
Она выписала мне освобождение на два дня. На листке приписала, что дальнейшее лечение по месту жительства.
– Доктор, – не отставал я, – как мне быть? Я заболел в субботу. Не мог встать. На работе надо было дежурить…
– Ничего не знаю. Я вижу вас впервые.
Я не верил всему, что случилось сейчас. Но это было! Организм, говорят, неподвластен человеку, своему хозяину. Ой ли… Человек может управлять собой. Он может в одну минуту приказать себе заболеть или выздороветь. Стоит лишь сильно захотеть.
Выхлюпал я это своей Соколихе.
Она только посмеялась:
– Горе не беда. Поболей по нужде на здоровье. А врачи… Что они понимают? Один халат[165] выписал мужику бюллетень: отпуск временный – гражданин беременный!
5 февраля
В магазине
Ночью с крыши сполз под окно снег. От его глухого падения я проснулся.
Мне стало жалко снег. На крыше ему было хорошо. Он царственно лежал там и видел всё окрест. Теперь весна столкнула его с трона зимы. Плотной сиротской горкой лежит под окном. Скоро запоёт крыша каплями и от этой песни плохо станет снегу.
Солнце.
По саду носится с лаем Байкал.
Бабка в окно улыбается ему:
– Тепло. Оттаял мой пёс. Вот и лает. А в холода и есть не выходил из будки… Смотри, какие вон большие сосульки! Такие крупные уродятся огурцы… День прекрасный. Не придуривайся, симулянт! Поезжай за кухонным столом.
Еду на Чернышевского.
У магазина толчея. Гвалт.
Еле записался на столы. Семьдесят восьмым!
– Сынок! – обращается ко мне старушка. – Толкни ту, что записывает. Совсема не слышит меня.
– Толкните сами. Я не хочу зарабатывать пятнадцать суток.
Первая у двери женщина хвалится:
– Вчера записалась в 23 часа. Ночь провела в подъезде напротив.
Голос из толпы:
– Одна?
Она смеётся:
– Будь одна, не знаю, что и делала б.
– А где же он?
– За апельсинами пошёл мне. Он по очереди второй.
Разгорается дискуссия о мясе.
– А продавцы фулюганы! – в крик заявляет сердитая ветхая старушка. – Я жила в деревне. Ни одного барана не видела без зада. А тут за три года ни разу не видела мяса с заду… Вот!
Её голос покрывает молодой густой бас:
– А где запись на табуретки?
– В подъезде.
Список у молодой рослой губастой девицы с усами. Она прижимает список к груди и говорит парню:
– Я вас ни за что не вычеркну, Одинокий!
– Не Одинокий, а Одиноков. Дружба наша закалилась с шести утра.
Маленькая женщина молитвенно уставилась на усатую девицу:
– Запишите меня. Козак.
– Уже есть!
– Нет. То Казак, а это Козак.
Подошла ещё женщина:
– И меня запишите. Козачок.
Толпа шатнулась от смеха:
– Одни казаки и козы! И ни одного фельдмаршала!
Смех достигает апогея, когда маленький глухой старичок кричит:
– Будённый я. Ну тот, что в Кремле. Только он мой однофамилец. Не путайте.
На табуретки я был шестьдесят девятый.
Рядом со мной стоял мужик. У него тридцатая очередь на табуретки. Но табуретки ему не нужны.
– Ну давай мне твой талон.
– За так?
– А как ещё?
– За так поищи дураков в другой деревне. Гони пятак и моя очередь – твоя!
Мы тут же обменялись верительными грамотами. Я ему пятёрку, а он мне клочок бумажки с цифрой 30.
Я купил красный кухонный стол и три красных табурета.
Оформляющая доставку не знает, сколько с меня взять.
Говорит в телефонную трубку:
– Галь! Прокрути Кусково.
– Четыре тридцать девять.
Тут подошёл малый и предложил:
– Они тебе привезут твои красные игрушки только завтра. А я за пятёрку повезу сейчас.
Я оформительнице:
– Девушка, с вами дружбу нельзя разорвать?
– Рвите.
На красном «москвиче» мы летели на всех парах.
На проезжине шоссе Энтузиастов лежал, согнувшись, сбитый мужчина. Казалось, он прилёг согреться. Вот согреется и пойдёт. В руке была зажата авоська. В авоське хлеб, вокруг рассыпана картошка.
7 февраля, суббота
Кругом семнадцать!
Вечером опять пришлёпала к Соколихе нотариальная кнопка Марья Ивановна. Получила сегодня пенсию. Притащилась с бутылкой перцовки.
Кумушки наклюкались.
Зовут разделить с ними их радость.
Я упираюсь. Соколиха хватает меня за руку и тащит в свою комнату к столу.
– Толя, не протестуй! – еле шевелит языком старуха. – Не имеешь права на протест. Я тебе продала братову комнату. Я тебе хозяйка по гроб. Запомни это… Против хозяйки не дыхни!
За столом она беспардонно нахваливала меня и по временам всё норовила поцеловать в щёку.
Влепила три холодных жабьих поцелуя.
Я встал уйти.
– Толя! Не уходи… Не обижай старуху…
– Какая вы старуха! – с ядом хмыкнул я. – Вам не семьдесят один, а совсем наоборот. Кругом семнадцать!
– Вот за комплимент спасибо! Я всем говорила и скажу сейчас. Вот рушат наше Кусково. Распихивают кого куда и дальше. А я поеду в новый дом только с Толей. Я умру – всё отпишу ему!
Осерчала нотариальная кнопка:
– Раньше ты говорила мне другое.
– Так то раньше… Стань я молодой, сама полезла б на Адама! Не смотрите на меня полохливыми глазами. Семнадцатки нет. Адама нет. Лезть некому и некуда… А вообще-то я доброй души… Для многих жильцов была второй матерью. И эта доброта угубит меня… Помню, сосед уехал на месяц к любовнице. Бросил кошку… Промывала я косточки соседовы, но кошку кормила… Были квартиранты-ух! Одна девица ходила с парнем. Взяли его в армию. Завела второго. Вернулся первый… Ночь меж двоих на террасе. А утром я говорю: «Ребята! Берите по палке. Ты – Онегин, ты – Ленский. И за соседский дом в лес на дуэль…»
Вспомнила своего старика Валерия. Он всё Катерине застенной кидал:
– Мы в цене. А вы ничто!
Катерина звала его гутан-орангутангом. Уж больно тёмен он был с лица.
Печально вспомнила Соколиха, как попугала раз братову внучку:
– Поеду я, Марина, на юг и привезу другого дедушку. У этого уже совсем нет волоса на голове.
Девочка заплакала и стала умолять:
– Бабушка! Я очень прошу тебя… Не меняй дедушку! Я даю тебе честное слово: вырастут у дедушки Валеры волосики!
9 февраля
Сговорчивые дяди
Аккуратова притащила из дому новость:
– Вот происшествие… В пятницу я договорилась с подругой встретиться в субботу. В субботу утром она мне звонит: «Знаешь, Тань, я не смогу. У меня умер дядя». И я ей почти обрадованно и удивлённо кричу: «И я не смогу! И у меня умер дядя!» Без обиды. Взяли дяди и умерли. Они не сговорились?.. Вот… Сегодня надо идти хоронить. А у меня актив министерства промышленного строительства. Материал я уже написала. Надо пойти кое-что уточнить и дать присутствие…[166]
Я назвался груздём:
– Давай я схожу…
В «Детском мире» купил я серые кружки́ на табуретки, на которых стояли электроплитка и ведро с водой. В «Пассаже» затарился простынёй и побежал на актив.
В перерыв прорвался к заму министра. Он отфутболил к члену коллегии. Член подмахнул текст.
Звоню на главный выпуск. Велят, чтоб материал завизировал сам министр. Послали за мной «Победу».
Министр всё время прел в президиуме. Кое-как пробился к нему. Прочёл он материал, ведя актив.
Конечно, подписал.
Только на этом беготня не кончилась. Целый час толокся у цензора, всё доказывал, откуда та и та цифирь.
А тем временем началось профсоюзное собрание. И на нём меня в две тяги костерили в воспитательном приступе Колесов и профбожок Серов:
– Схлопотал товарищ выговор за прогул и не явился на первое же профсоюзное собрание. Ну как ещё его воспитывать? Ну и фонарист![167]
10 февраля
Кассирша
В угловом магазине у Никитских ворот я брезгливо прожёг мимо винного отдела. Сразу в продуктовый.
Взял двести грамм свинины, один апельсин.
Уже на подходе к метро вспомнил, что меня капитально надули. С десятки дали сдачу как с рубля.
Я рысцой назад.
– Я вас не помню, – вежливо икнула пьяная кассирша. – Подождите… Сниму кассу. Может, если ты мне понравишься, я тебе и дам… Ой, отдам…
Я выпил пакет молока.
Бросил шапку на подоконник. Присел на табурет между двумя круглыми столиками. Опёрся на них локтями.
Подошёл милиционер:
– Вы что тут висите? Уже?
– Ещё. Жду сдачу.
Скоро десять.
Два парня пересчитывают кассу. Похожи на правдолюбцев. Мы скомпановались.
– Знаете, – рубанул я завмагу и кассирше, – со мной лучше не связываться. Я самого себя боюсь. Вот такой я.
– Валь, – уговаривает завмаг кассиршу, – ну, отдай.
– Ладно, – соглашается она. – Я отдам из своей зарплаты.
И подаёт мне из сумочки девять рублей.
Один из парней удивился:
– Откуда у вас эти деньги? У вас их не должно быть!
– А мне долг отдали.
– Ровно девять?
12 февраля
Больной бузулук
Бузулук прихрамывает.
Держится как национальный герой Вьетнама, отважно борющегося с американами.
Он небрежно суёт мне под нос листок:
– Вот какие оправдательные документы надо иметь, а не твои голые слова!
Вокруг него сбивается толпа зевак.
Олег гордо читает:
«Мы, нижеподписавшиеся, свидетельствуем, что 7 февраля тов. Бузулук Олег Дмитриевич, по его словам, с сыном пришёл к нам в баню. Он был совсем трезвый. Полез он на полок попариться, но почему-то поскользнулся, упал.
При падении товарищ Бузулук был рассеян и невнимателен и ударил ногой трубу. В ответ труба от удара лопнула и обожгла его кипятком, что мы и подтверждаем.
Зав баней». Подпись.
– Вот, Толя, – говорит Олег, – таким обрезом ты видишь, что я болен? Видишь. Я – член профсоюза. Ты – профбосс. Ты должен мне дать три рубля на посещение? Должен.
Олег зовёт к себе Молчанова:
– Живей, сюда, небоскрёб твою мать! Садись!
Валька садится рядом с Олегом.
Бузулук диктует ему текст прошения:
В местком ТАСС
Профбюро ГРСИ просит выделить на посещение заболевшего литсотрудника РПЭИ О.Бузулука 3 (три) рубля.
Председатель профбюро ГРСИ
В. Серов
Молчанов просит меня подписать.
Я подписываю и думаю, что же дальше.
А дальше Аккуратова подняла хай:
– Олег! Ты зачем приставал к трубе? Избиение трубы выйдет тебе боком! Да вы что? Совсем офонарели? Вы Сана ещё под один выговор подведёте! Как не стыдно!
Молчанов кисло поморщился:
– А ты не слышала… Не слушай.