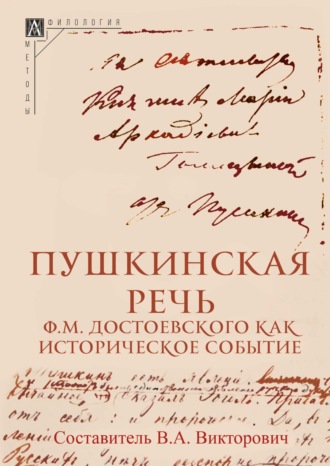
Пушкинская речь Ф. М. Достоевского как историческое событие
Е. П. Леткова-Султанова
<…> После долгих серых лет труднейшей работы русских писателей, после мрачного подполья – вдруг явилось какое-то всенародное признание литературы в лице великого Пушкина. Открытие памятника ему стало (может быть, даже и помимо воли устроителей) национально-общественным торжеством и разрослось в настоящее историческое событие.
Молодежь, хотя (уже надо покаяться!) тогда далеко стоявшая от Пушкина, встрепенулась. К тому времени, правда, Писарев уже был забыт, о «печном горшке» никто уже не говорил, но и о Пушкине не говорили. У нас (то есть у поколения 70‑х годов) был Некрасов. Пушкина же любили «индивидуально». Конечно, все его читали, многие его строки входили в ту ненапечатанную «хрестоматию», которую создает себе каждое новое поколение. Но о нем не было повода говорить, пока не появился памятник на Тверском бульваре. Помню наше возмущение по поводу того, что на одной из сторон цоколя оказалась переделанной строка Пушкина: вместо «И долго буду тем любезен я народу» высечено: «И долго буду тем народу я любезен»…
Причина та, что слово «народу» неизбежно бы притягивало сакраментальное слово «свободу»…
___
Помню, с каким восторгом мы распределяли полученные на курсах билеты «На открытие памятника Пушкину».
Я позволю себе привести здесь отрывки из моей записной книжки 1880 года.
«<…> 8 июня. Вчера день был мучительно хороший. Не знаю, что и записывать. Речь Достоевского… Маша Шелехова упала в обморок. С Паприцем сделалась истерика. А я слушала и злилась. Ирония, с какой Достоевский говорил об Алеко, мучила. “Мечта о всемирном счастье. Дешевле не возьмет русский скиталец!..”
Что это? Не хотелось верить своим ушам, не хотелось понимать так, как это понимал Достоевский. И не я одна, а очень многие так же реагировали на его слова, как и я. И как-то без уговора перенесли все симпатии на Тургенева. Стоило Достоевскому упомянуть имя Лизы Калитиной (из “Дворянского гнезда”) как о родственном пушкинской Татьяне “типе положительной женской красоты”, чтобы его речь была прервана шумной овацией Тургеневу. Весь зал встал и загремел рукоплесканиями. Тургенев не хотел принимать этих оваций на себя, и его насильно вывели на край эстрады. Он был бледен и сконфуженно кланялся. Конечно, Лиза не наш идеал, как не идеал и Татьяна с ее “рабским”: “я другому отдана и буду век ему верна…”. Мы преклоняемся перед Еленой с ее жаждой деятельного добра, с ее смелостью и самоотверженной любовью. Она является в русской литературе первой политической деятельницей, которых в России так много, как ни в одной стране, а упоминание о Лизе было для нас просто поводом к выражению Тургеневу нашей солидарности с ним, а не с Достоевским, речь которого была насыщена выпадами против западников, а значит, и против Тургенева. Овации ему вырвались, может быть, и бессознательно, но после заседания уже совершенно осознанно явилась потребность выразить Ивану Сергеевичу, на чьей стороне мы видим правду. Было решено подать венок Тургеневу».
Вот непосредственное впечатление рядовой курсистки о том «событии», как называли речь Достоевского.
Конечно, это было событие, о котором говорили самые разные люди и которое вспоминают и до сих пор. По внешнему впечатлению кажется, ничто не может встать рядом с тем днем 8 июня 1880 года, когда в громадном зале б<ывшего> Дворянского собрания, битком набитом интеллигентной публикой, раздался такой рев, что казалось, стены здания рухнут. Все записавшие этот день сходятся на этом. Но, право, не все, далеко не все одинаково восприняли вдохновенно сказанные слова, прозвучавшие в этом зале с такой неслыханной до того времени художественной мощью. Речь была так сказана, что тот, кто сам не слыхал ее, не сможет объяснить произведенного ею впечатления на большинство публики. Но была и другая часть, вероятно, меньшая, та левая молодежь, которая сразу встала на дыбы от почти первых же слов Достоевского. Отчасти этому содействовало, может быть, то, что Достоевский явился на Пушкинский праздник не как писатель Достоевский, один из славных потомков Пушкина, а как представитель Славянского благотворительного общества. Это, может быть, создало предвзятую точку зрения, так как – повторяю – молодежь в то время непрерывно вела счеты с Достоевским и относилась к нему с неугасаемо критическим отношением после его «патриотических» статей в «Дневнике писателя». О «Бесах» я уже и не говорю.
Понятно, что, когда Достоевский заговорил о «несчастном скитальце в родной земле», о бездомных скитальцах, которые «продолжают и до сих пор свое скитальчество», некоторые из нас переглянулись между собой. «И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы, – сказал он, – искать у цыган своих мировых идеалов… то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новой верой… что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного, ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться: дешевле он не примирится!!»
Это было сказано с такой тончайшей иронией и вместе с тем с такой непреклонной верой в правоту своих убеждений, что многие, даже среди молодой публики, были настолько захвачены художественным пафосом Достоевского, что не могли сразу разобраться. Но для других – ни вдохновение, с каким говорил Достоевский, ни его растроганный голос, ни бледное, взволнованное лицо не заслонили содержания речи и ее громадного отрицательного значения.
Кроме насмешки над «русским скитальцем» его резкие выпады против западников, проповедь «смиренного» общения с народом и личного совершенствования в христианском духе, рядом с презрительным отношением к общественной нравственности, определенно поставили Достоевского вместе с врагами того движения, которое владело в эту эпоху всеми симпатиями молодежи.
Только что перед этим «Московские ведомости» Каткова обличили Тургенева в помощи Бакунину. Достоевский же считался в этом вражеском катковском лагере «своим», принадлежащим к охранителям самодержавия, и все знали, что его «Дневник» читался в высших бюрократических кругах. Надо было отмежеваться от него, показать, что мы не на его стороне, и как поссорившиеся родители дерутся с детьми, так молодежь стала драться с Достоевским Тургеневым.
Еще до речи Достоевского на Пушкинском празднике уже определилось первое место Тургенева, и у подножия памятника, и в университете, и на всех празднествах, где бы ни появился этот седой гигант, он был первым лицом. Но и на всех литературных собраниях, так распространенных в то время среди молодежи, Достоевскому неизменно противопоставлялся Тургенев и, может быть, преувеличивались преступления против жертвенных стремлений молодежи – одного и раздувалось значение в этом смысле – другого.
Но время было боевое, и молодежь была беспощадна. Все симпатии были направлены в одну сторону… И даже к Пушкину подходили больше с общественно-политической точки зрения.
Понятно, что при таком настроении речь Достоевского только подлила масла в огонь и обострила враждебное отношение к нему молодежи и прогрессивной части печати.
Но разгорелось это не сразу. Нужно было известное время, чтобы, как говорил Глеб Иванович Успенский, «очухаться» от ворожбы Достоевского.
Сам Успенский, для которого социализм был тоже своего рода религией, написал непосредственно после речи Достоевского почти восторженное письмо в «Отечественные записки». Его заворожило то, что впервые публично раздались слова о страдающем скитальце (читай – социалисте), о всемирном, всеобщем, всечеловеческом счастье. И фраза «дешевле он не примирится» прозвучала для него так убедительно, что он не заметил ни иронии, ни дальнейшего призыва: «Смирись, гордый человек!» И только когда он прочел стенограмму речи Достоевского в «Московских ведомостях», он написал второе письмо в «Отечественные записки» уже совершенно в ином тоне. Он увидел в словах Достоевского «умысел другой». «Всечеловек» обратился в былинку, носимую ветром, просто в человека без почвы. Речь Татьяны – проповедь тупого, подневольного и грубого жертвоприношения; слова «всемирное счастье, тоска по нем» потонули в других словах, открывавших Успенскому суть речи Достоевского, а призыв: «Смирись, гордый человек» (в то время как смирение считалось почти преступлением) – зачеркнул всё обаяние Достоевского. И это осталось так на всю жизнь.
<…> Когда после летних каникул 1880 г. мы собрались на первую студенческую вечеринку, где-то в школе у Сухаревой башни, мы почти забыли о Достоевском. Но стоило кому-то принести номер «Дневника писателя» с речью и ответом критикам, чтобы снова загорелся совершенно дикий спор. Достоевский тогда кончал «Карамазовых», дошел до крайних высот своего творчества, а в «Дневнике» являлся настолько чуждым молодым его читателям, что они могли забыть всю его художественную мощь и с пеной у рта кричать о нем как о политическом враге.
Когда кто-то попытался напомнить товарищам о значении Достоевского как великого художника, с его скорбной любовью к человеку и великим состраданием к нему, это вызвало такие резкие споры и пламенные раздоры, что пришлось перевести разговор на страшные переживания Достоевского, на каторгу, перестраданную им. <…>
Но если Достоевский не находил созвучного отклика среди известной части читателей, то, с другой стороны, никогда ни один русский писатель не имел такого успеха в так называемом обществе, как Достоевский в этот последний год его жизни. Неославянофильское направление разливалось всё шире и шире; боязнь террористических актов вызывала ненависть к учащейся молодежи, солидаризировавшейся с социалистами; вера в божественную миссию русского народа успокаивала сердца и наполняла их гордостью… Всё это находило себе исход в поклонении Достоевскому. <…>
А.И. Суворина
<…> Окончилось чтение, все кинулись к выходу, к артистической комнате, навстречу Достоевскому, и тут произошло совершенно еще невиданное и неожиданное зрелище. Когда только вышел Достоевский, к нему буквально бросились девушки и вообще молодежь, толпою, некоторые прямо падали на колени перед ним, целовали ему руки; я такие сцены видела только после, с от<цом> Иоанном Кронштадтским, когда толпа буквально несла его. Наконец, несколько освободившись от восторженной толпы, он, поравнявшись с мужем и пожав ему руку, отвечал на приветствия Ал<ексея> Сергеевича, шепнув ему: «А, каково? Наша взяла!» Алекс<ей> Серг<еевич> передавал это с восторгом, так как сам был всегда националистом и русским до глубины души. Я этого совершенно не понимала и удивлялась, что даже у таких громадных людей бывают слабости и такое тщеславие, но мой муж ответил, что это вовсе не тщеславие, а торжество их взглядов, их идей! Торжество закончилось апофеозом Достоевского и всё перед ним побледнело! Такова в нем была сила слова! <…>
Отклики. 1880 год

Новое время. 1880. 11 июня
Я. П. Полонский – Ф. М. Достоевскому
8 июня
Смятенный, я тебе внимал,
И плакал мой восторг, и весь я трепетал,
Когда ты праздник наш венчал
Своею речью величавой,
И нам сиял народной славой
Тобою вызванный из мрака идеал,
Когда ты ключ любви Христовой превращал
В ключ вдохновляющей свободы.
Телеграмма от специального корреспондента «Голоса»
(«Голос». 9 июня)
<…> Москва, воскресенье, 8‑го июня. Сегодня, в 2 часа пополудни, состоялось, при громадном стечении публики, второе заседание Общества любителей российской Словесности. Заседание открылось речью второго председателя общества, г. Чаева, после которого читал Ф. М. Достоевский. Это было мастерское, полное силы, остроумия и задушевной теплоты чтение. Разделив поэтическую деятельность Пушкина на три периода, г. Достоевский, прежде всего, заметил, что уже в первом периоде, несмотря на проявляющуюся у Пушкина подражательность европейским поэтам, Андре Шенье и Байрону, довольно ярко выразилась самостоятельность творчества. Чрез оба первые периода проходит один тип: сначала Алеко в «Цыганах», потом Евгений Онегин – тип русского скитальца, скучающего мировой тоской, скитальца, которому, чтобы успокоиться, нужно всемирное счастье. Тип этот еще существует и в настоящее время. Проследив историческое происхождение и историческую необходимость этого типа в русской жизни и рассмотрев все его стороны, оратор перешел к другому, созданному Пушкиным, также чисто русскому типу, типу положительной красоты – Татьяне, которая представляет собою апофеоз русской женщины. «Весь второй период деятельности Пушкина, – продолжал г. Достоевский, – отмечен тем, что мы называем народностью. В творчестве его проявилось высшее выражение народной жизни и оттого все созданные им типы так глубоко правдивы: они стоят, как изваянные. Наконец, третий период представляет собою выражение идей всемирных. Здесь Пушкин является даже чудом. В европейской литературе нет гения, который обладал бы такою отзывчивостью к страсти всего мира. Пушкин один владеет этим даром, и в этом заключается его высокое значение как русского народного поэта, так как в нем во всей своей полноте выразился характер русского народа. Всемирность, общечеловечность – цель русской народности; стать русским значит, в конце концов, стать братом всех людей, всечеловеком. Для настоящего русского Европа и вообще успехи арийского племени так же дороги, как сама Россия. Кто не согласится, что даже в государственной политике Россия в последние два века служила Европе более, чем самой себе. Историческое призвание России в том, чтобы изречь слово примирения, указать исход европейской тоске. Пусть наша земля – нищая в экономическом отношении, но почему же не ей суждено сказать последнее слово истины? Это предположение может быть названо смелой фантазией, но существование у нас Пушкина дает надежду, дает нам право предполагать, что эта фантазия осуществится. И это было бы еще ближе, возможнее, если б Пушкин жил более; но он умер и унес с собою в гроб великую тайну».
Может быть, никогда еще стены залы Благородного собрания не были потрясаемы таким громом рукоплесканий, какой раздался вслед за заключительными словами г. Достоевского. Члены общества вскочили со своих мест, пожимали ему руки. Через несколько минут председатель заявил, что общество тут же постановило избрать Федора Михайловича своим почетным членом. После этого заявления рукоплескания сделались еще восторженнее. <…>
Телеграмма международного телеграфного агентства
(Опубликовано 9 июня: «Голос», 11 июня: «Петербургский листок», 12 июня: «Современность», 13 июня: «Церковно-общественный вестник», «Ведомости СПб. градоначальства и СПб. городской полиции», «Ведомости Одесского градоначальства»).
<…> Речь Достоевского вызвала бурю восторгов. Аудитория не в силах была выдержать, и не раз рукоплескания прерывали прелестную, глубокую и обильную мыслями речь. По словам Достоевского, в Пушкине заключено «пророчество и указание». Мысль эта развивалась оратором из следующих положений: типы, созданные Пушкиным, суть типы русских людей; как изваянные, стоят эти типы цельно, поражая своею самобытностью, народностью, правдой. Алеко и Онегин один и тот же тип: Алеко – идеализованный, мятущийся русский человек; Онегин – человек реальный, с плотью и кровью, скучающий Алеко. Тип русской женщины, чистый тип, представлен в образе Татьяны. Оратор рассмотрел Онегина и Татьяну как типы, разобрал величавый тип Пимена и другие. В этих типах – пророческие указания; эти типы дали готовые образы, готовые материалы последующим поколениям писателей, пророчески определили будущую самобытность русской художественности в слове и пластическом искусстве. Но современники не поднялись до высоты этих пушкинских образов. В русской художественной литературе не было и нет такого чистого, прелестного образа, как Татьяна. Только разве тургеневская Лиза одна… (гром рукоплесканий). «Западные литературы имеют гениев громадой величины – Шекспира, Сервантеса, Шиллера и др., но это всё гении в пределах своей национальности. Укажите же мне, где тот литературный гений на Западе Европы, который обладал бы способностью мировой отзывчивости? Во всем мире таким является только Пушкин! Читая, например, его «Дон-Жуана» и даже не зная, что это произведение подписано именем Пушкина, вы скажете, что это создание национального поэта». Такова-то чудодейственная сила этого гения. Пушкин обладал способностью воспринимать чуждые нашей русской природе мотивы, претворять их в себе, проникаться ими. Это есть особенность нашего народа; Пушкин был сын своего народа, высшее, гениальнейшее выражение всех сторон его духа – вот почему он главнейшим образом есть народный поэт. Оратор перешел затем к вопросу о великой мировой будущности России. «Она, – он верит, – призвана разрешить недоразумения, волнующие духовный мир наших братьев на всем пространстве Европы! Чистая сердцем, обильная любовью, она объединит народы в духе братской любви, завещанной миру Христовою заповедью»…
Речь вызвала неописуемые восторги. Махали платками, потрясали шляпами, плакали; крикам «браво» и рукоплесканиям не было конца. Общество любителей российской словесности никогда не было еще свидетелем таких восторгов. Достоевский несколько раз являлся на кафедре и благодарил. Буря не унималась; когда же председатель общества г. Юрьев объявил, что вслед за выслушанною речью г. Достоевский избран в почетные члены общества, все присутствовавшие вскочили со своих мест, не только публика, но и члены общества, помещавшиеся на особой эстраде. Бесконечные овации возобновились. Речь г. Достоевского длилась около часу; я воспроизвел только малую часть ее; нужно было слышать всю речь, чтобы понять, насколько эти восторги были лишь слабою данью оратору.
<…> Итак, праздник кончен. Кто знает, скоро ли соберется опять воедино вся мыслящая Русь и так же ли полны будут тогда эти благородные ряды?
<Н.П. Гиляров-Платонов>
<Передовая статья>
(«Современные известия». 9 июня)
<…> Будто пророчески сравнили мы всеобщее воодушевление, вызванное сооружением Пушкину памятника, с подобным же одушевлением в сербскую войну, лишь различив, что то был подъем русского духа в его стихийности, а ныне предстоит объединение в сознании. Сегодняшнее заседание Общества словесности было торжественным исполнением наших гаданий. Речь, произнесенная Ф. М. Достоевским, произвела истинный фурор. Никогда с такою глубиною не анализирован был наш великий поэт отчасти, а отчасти и идеалы русского народа. Это была молния, прорезавшая небо. О силе впечатления, произведенного на слушателей, можно судить по тому, что зала буквально была свидетельницею истерических припадков; женщины плакали, а один молодой человек, потрясенный, стремительно, вне себя, бросился к оратору. Не найдя его там, потому что члены общества вместе с оратором удалились тем временем в смежную с эстрадой залу, молодой человек вбежал туда и упал без чувств: несколько минут продолжался этот его нервный припадок.
Члены общества не менее посторонних слушателей поражены были речью; бросились, как один человек, поздравлять оратора и тут же провозгласили его своим «почетным» членом. Следовавший затем антракт заседания был довольно продолжителен. Публика недоумевала, изъявляла нетерпение. Но среди общества, удалившегося в залу, шел вопрос: уж продолжать ли заседание? И. С. Аксаков, которому наступал черед говорить вслед за Достоевским, отказывался от слова, выражаясь, что всё, что он может сказать, будет слабою тенью того, что услышано, и потому излишне. Словом, заседание грозило расстроиться и продолжалось благодаря лишь настоянию публики, чтобы говорил Аксаков, на что он согласился только отчасти, прочитав не всю речь, а только отрывки из нее.
Чтобы кончить с внешней стороной этого поистине события, добавим, что говоривший последним А. А. Потехин предложил ознаменовать Пушкинский праздник подпиской на памятник Гоголю, на что публика отвечала восторженными рукоплесканиями. По окончании заседания снова потребовали Достоевского и поднесли ему лавровый венок, мысль о котором возникла тотчас же после его речи и осуществилась. Но дело не в этой внешней стороне события, а в том, что на определение, какое дал чествуемому поэту Ф. М. Достоевский, и на идеалах, которые он вывел из его творений, одинаково примирились лица разногласных, по-видимому, направлений. Это был праздник действительно совершившегося единства в сознании.
Мы не станем передавать существа речи, да в газетной статье и невозможно это. Оратор разобрал два русских типа, пророчески изображенных Пушкиным: тип отрицательный – «скитальца», которого первый образ является в Алеко, повторяется потом, видоизмененный, в Онегине, и – положительный – в Татьяне. Оратор перешел затем к тому разряду творений Пушкина, где поэт, не переставая быть народным, возвысился к решению всемирных вопросов (Из Фауста, Каменный гость, Пир во время чумы). Но это опять, с нашей стороны, только внешнее перечисление: самый анализ характеров и положений, выводы нравственных оснований, вот что поражало необыкновенной силой и глубиной – «гениальностью», как выразился публично И. С. Аксаков.
Читатели познакомятся с содержанием этой замечательной речи, составившей событие в нашей литературе. Без сомнения, она будет напечатана. Между прочим, и мы надеемся возвратиться к ней впоследствии. <…>


