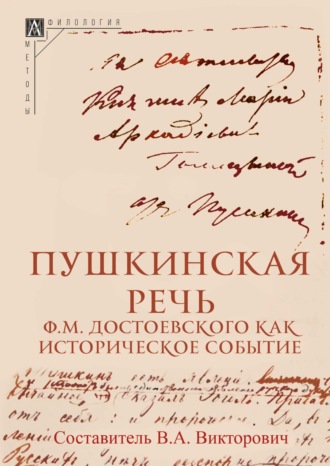
Пушкинская речь Ф. М. Достоевского как историческое событие
О. А. Новикова – Ф. М. Достоевскому
9 июня
Вчерашний день, благодаря Вам, действительно велик! Но Вашей гениальной речи не подобает появиться в Чухонских Афинах; Катков будет счастлив напечатать ее на каких угодно условиях, в этом не сомневаюсь…
«Современные известия». 10 июня
2‑е заседание в обществе словесности. Заседание в Обществе любителей российской словесности 8 июня открылось речью г. Чаева, в которой было обращено внимание на свободу творчества вообще и Пушкина в частности. Только что успели смолкнуть рукоплескания, проводившие г. Чаева, как новый взрыв их встретил уважаемого романиста г. Достоевского. Ясным, симпатичным голосом прочел свою речь г. Достоевский, продолжавшуюся около ¾ часа и много прерываемую аплодисментами. В ней он разделил деятельность Пушкина на 3 периода. Впрочем, сказал г. Достоевский, эти 3 периода не имеют резких границ, так как признаки, которыми я их отличаю, чувствовались всегда во всех 3 периодах, только с большим или меньшим преобладанием в то или другое время. В первое время на Пушкине более чем в какое другое отражается западная литература, хотя он и здесь, при подражаниях, остается тем же самобытным писателем, как в последующие затем периоды. Но чем больше Пушкин писал, тем больше удалялся от подражания и наконец создал такой чисто-русский тип, как Алеко в поэме «Цыганы». Что за человек Алеко? Давно в России стали появляться люди, оторвавшиеся от чисто практической деятельности, наполовину вкусившие плода европейской науки, но не вполне понявшие ее, которые не находят помещения для своей силы и скучают, неудовлетворенные, отыскивают свой идеал, бродя по белу свету. Человек цельный всегда найдет сферу, в которой может удовлетворить себя; но не таков русский скучающий человек: если уж он ищет счастья, то счастья всего человечества; если уж ему нужна любовь, то любовь всех и ко всем. Это отличительная, чисто русская черта, которую так верно сумел заметить Пушкин и так давно воспроизвесть сначала в Алеко, а потом в Онегине. Это та черта, которая, проходя различные фазы, наконец нашла приют себе в наших социалистах. Я, говорил г. Достоевский, не буду останавливаться долго на Онегине, на этом отрицательном типе, но позволю себе обратить внимание ваше на тип положительный, цельный, тип русской женщины в лице Татьяны. Такую красоту, такую энергию и вместе с тем самоотвержение мы можем найти только в чисто русской, деревенской, и потому народной женщине, каковою и была Таня. Наконец, третьей и самой крупной чертой Пушкина было, по словам г. Достоевского, умение проникнуться чуждой ему сферой. Прочтите, например, «Дон-Жуана», и если бы там не было подписи нашего поэта, вы не могли бы не признать в нем чисто южное, пылкое творение испанца, да в нем нет ничего русского. Не то мы видим в писателях других стран, хоть в Шекспире, например. Он, описывая итальянца, остается всё тем же бриттом. Только мы, русские, способны так глубоко понимать все национальности, и в этом-то заключается мировое значение Пушкина, в этом-то заключается, я верю тому, и будущее мировое призвание русского народа, который сумеет примирить в себе все разрозненные европейские национальности.
Такими приблизительно словами закончил свою блестящую речь г. Достоевский. После этого председатель г. Юрьев объявил об избрании Ф. М. Достоевского в почетные члены Общества любителей Российской словесности, что было встречено общим восторгом. И. С. Аксаков, говоривший после г. Достоевского, начал приблизительно так: «Вчера и сегодня много говорилось о народности Пушкина; но после речи Федора Михайловича я считаю этот вопрос упраздненным, а потому и отлагаю свое чтение, так как в нем я хотел остановиться на Пушкине как на народном русском поэте, в чем теперь нет нужды: народность поэта замечательно доказана г. Достоевским, и я не в состоянии привнесть никаких новых черт». Однако по требованию публики г. Аксаков прочел свою речь, в которой, как на главную учительницу русскому языку и русскому народному духу указал на эту «мамушку», няню Пушкина.
Поэт тем дорог нам, начал г. Плещеев, что в годину мрака он один умел призвать нас к высшей жизни духовной и указать нам на ее идеалы. Стихотворение г. Плещеева так понравилось, что ему пришлось, по желанию присутствовавших, еще раз его повторить. Последним говорил г. Потехин. Он указал на значение празднования памяти Пушкина, говоря, что этим самым нам как бы дается аттестат зрелости. Свою мастерскую речь г. Потехин закончил желанием постановки памятника продолжателю Пушкина Гоголю и тут-то объявил, что говорил не от себя только, а от имени всех членов и по поручению их, причем назвал И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, А. Ф. Писемского и других, указав и на место постановки, в Москве, на Никитском бульваре. Тут же была открыта и подписка на памятник Гоголю.
В тот самый момент, как присутствующие хотели уйти, но, приглашенные председателем, остались, дамы вынесли венок, которым и был увенчан Ф. М. Достоевский. Восторг дошел до высших пределов, когда Федор Михайлович, растроганный, как бы подавленный своим торжеством, стал благодарить; видимо взволнованный, он поспешил удалиться.
«Новое время». 10 июня
8 июня. Сегодняшнее заседание Общества любителей российской словесности открылось речью г. Чаева; после него читал г. Достоевский. Многочисленная публика встретила его восторженной овацией. Он охарактеризовал Пушкина как единственное по самобытности явление русского духа. Даже в начале своей поэтической деятельности Пушкин не был подражателем. В образе Алеко поэт воссоздает движущуюся Русь, ищущую идеала всемирного счастья, ибо русский человек ищет удовлетворения только во всемирном счастье. Эта бродячая сила сказывается теперь не нормальными явлениями, интеллигенция бросается в социализм. Алеко идет к цыганам, живущим без законов, любит дикую женщину, убивает ее. Его гонят; ему говорят: «уйди от нас, гордый человек». Это значило – «Смирись, праздный гордец, потрудись за родной народ, пойми его». В Онегине живет тот же идеал. Г. Достоевский дает блестящую характеристику Онегина и Татьяны. Татьяна умнее Онегина; это лучший тип русской женщины, который потом почти не встречается в русской литературе, исключая разве Лизу Тургенева. Татьяна смела, но не изменяет мужу, который ее любит. Разве можно основать свое счастье на несчастьи других – это прекрасный русский принцип. Перебирая все типы Пушкина, г. Достоевский доказывает, что он создавал одинаково художественно русские и иностранные типы, и в этом отношении Пушкин выше всех поэтов вселенной. Никогда никто не достигал такой ясности созидания. Он перевоплощался в чужую народность, воссоздавал ее, как свою. Перевоплощаться, не делать различия между племенами, угадывать будущее всемирное братство – свойство русского человека. Пушкин был всечеловек, и этим он народен, пророк воссоединения, будущего идеала, истолкователь русского сердца, которое стремится к великой гармонии и братству по Христовой заповеди.
Вот остов речи, сказанной тоном убежденного проповедника. Не раз Достоевского прерывали шумными овациями. Описать восторг слушателей невозможно. Крики, рукоплескания, махание платками продолжались несколько минут. Обнимают Достоевского, члены общества единогласно провозглашают его почетным членом.
Аксаков всходит на кафедру. Он называет речь Достоевского событием, гениальной. Вчера стоял вопрос о народном значении Пушкина в речи Тургенева, сегодня он упразднен. Славянофилы и западники единодушно согласны. Аксаков отказывается читать свою речь, написанную на ту же тему, но убежденный Тургеневым и требованиями публики – читает… Женщины подносят лавровый венок Достоевскому.
«Русская газета». 10 июня
Второе публичное заседание Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете по поводу открытия памятника Пушкину. 8 июня в половине второго часа пополудни при многочисленной публике открыто было заседание Общества любителей российской словесности; сперва звонок возвестил начало заседания, и публика заняла места; затем возвещена была программа, или порядок чтений, а именно: г. Чаев, Ф. М. Достоевский, А. Н. Плещеев, И. С. Аксаков, г. Анненков, Н. В. Калачев, г. Бартенев, А. А. Потехин. – На кафедру вступил г. Чаев и читал о значении творчества в поэзии, к сожалению, многое из прочтенного мы не могли расслышать. Как вступление на кафедру, так и окончание речи г. Чаева было приветствовано рукоплесканиями. Едва вступил на кафедру наш знаменитый романист Ф. М. Достоевский, как раздались громкие рукоплескания, которыми несколько раз было прерываемо чтение его. После окончания чтения г. Достоевский принужден был несколько раз появляться снова на кафедре, чтобы благодарить публику за восторженные рукоплескания. Если речь г. Чаева имела целью показать чудодейственную силу поэзии, то чтение г. Достоевского было вещее пророчество о значении поэзии Пушкина. Г. Достоевский занялся по преимуществу «Евгением Онегиным», этим скитальцем без почвы; таких скитальцев и теперь еще очень много.
Тип этого скитальца и в «Цыганах» Пушкина под именем Алеко встречается нам. Им, этим скитальцам, необходимо всемирное счастие, пока они его не найдут, они не могут успокоиться. В «Цыганах» видно влияние так, как Руссо в том, что этот скиталец ищет успокоения в любви дикой женщины; и, разумеется, не находит его и обагряет свои руки ее кровью. Этот же скиталец без почвы, в другой среде – Онегин. Это тип отрицательный, другое дело Татьяна; она стоит на твердой почве, в ней Пушкин олицетворил апофеоз русской женщины, повторявшийся в Лизе в «Дворянском гнезде» Тургенева. Эти слова, это сравнение Татьяны с Лизой вызвали продолжительные и восторженные рукоплескания. Г. Достоевский остановился на объединении народного значения гения Пушкина, на его уменьи всенародного воплощения своего гения, на что неспособны были величайшие гении Европы: Шекспир и Сервантес. Италиянцы в пиесах Шекспира являются все-таки англичанами. Эта особенность Пушкина и есть признак его гениальности. Г. Достоевский сделал ссылки на «Пир во время чумы», «Египетские ночи», «Дон Жуана» и привел выдержки из этих произведений Пушкина.
Г. Плещеев прочел прекрасное стихотворение, которое по желанию публики было прочтено вторично. – И. С. Аксаков начал с того, что после чтения Ф. М. Достоевского, после этой речи, составляющей истинное событие, он не желает читать, ибо уже высказано всё, что он желал бы сказать. Это заявление г. Аксакова было покрыто восторженными и продолжительными рукоплесканиями, но послышались со стороны публики заявления, чтобы г. Аксаков прочел свою речь. <…>
Заседание окончилось поднесением, или лучше сказать, возложением большого лаврового венка на г. Достоевского при шумных и восторженных восклицаниях публики. Мы забыли сказать, что по окончании чтения г. Достоевского он был избран в почетные члены Общества любителей российской словесности. Заседание окончилось в 5 ½ часов.
Из газет и журналов (русских и иностранных)
(«Молва». 10 июня)
<…> В вечернем заседании «Общества любителей русской словесности» наибольший энтузиазм возбудила речь г. Достоевского. Г. Аксаков назвал эту речь событием и признал ее примирительницей до сих пор еще не совсем сблизившихся западников и славянофилов. К сожалению, мы не имеем перед глазами полного текста речи, а извлечения из нее, переданные по телеграфу, не дают точного о ней понятия.
«Всемирность, общечеловечность, – так говорил г. Достоевский, – цель русской народности; стать русским значит стать всечеловеком. Историческое призвание России в том, чтобы изречь слово примирения, указать исход европейской тоске. Пусть наша земля нищая в экономическом отношении; но почему же не ей суждено сказать последнее слово истины».
Всё это очень заносчиво и потому фальшиво. Что это за выделение России в какую-то мировую особь, в избранный Богом народ? Мы то же, что и другие. Будем воспитывать в себе всечеловеческие идеалы, будем стремиться к общему сближению и умиротворению, будем трудиться наравне с другими и будем радоваться, если Господь поможет нам не отставать от других и идти на одном уровне с другими по пути общечеловеческого развития и совершенствования.
С. А. Толстая, Ю. Ф. Абаза, Вл. С. Соловьев – А. Г. Достоевской
Телеграмма 10 июня
Перешлите Федору Михайловичу. Радуемся за всё. Понимайте. Примите от нас более чем слова.
П. М. Третьяков – Ф. М. Достоевскому
10 июня
<…> Ваше торжество 8 июня было для меня сердечным праздником. Это лучшее украшение Пушкинского праздника. Это событие – как верно выразился И. С. Аксаков. <…>
<В. П. Буренин?>
Пушкинские дни в Москве
(«Новое время». 11 июня)
(От корреспондента «Нового врем<ени>»). 8 июня. Второе утро в Обществе любителей словесности. Речь Достоевского. Второе заседание общества словесности было так же многочисленно, как и первое. Событием дня и едва ли не всех празднеств в честь Пушкина было чтение Ф. М. Достоевского. Ни одна из речей, произнесенных на всех собраниях, чествовавших поэта, не одушевила слушателей таким поразительным энтузиазмом, как речь Федора Михайловича. По окончании ее он много раз должен был подниматься на кафедру, чтобы отвечать поклонами на несмолкаемые, оглушительные рукоплескания и восторженные крики. Махали платками, шляпами, стучали…
Постараюсь передать хоть вкратце сущность сказанного г. Достоевским.
Через целое столетие после Петровской эпохи явился поэт, который гениальными своими произведениями осветил дорогу русскому народу; поэтические слова Пушкина имеют пророческое значение. Разъяснение этой мысли о пророчестве оратор и поставил себе задачей. Периоды поэтической деятельности Пушкина, продолжал он, не имеют твердых, определенных границ. Он всегда черпал свои идеалы в родной земле и напрасно говорить о подражании его Андре Шенье, Байрону и др., Пушкин всегда обладал глубиною самосознания и глубиною познания своего народа и его духовных качеств, а потому и мог пророчествовать о будущих его судьбах. Вся суть русского сердца и русской души вылилась в типах, созданных Пушкиным. Капитальные типы эти – Алеко («Цыганы»), Евгений Онегин, в существе тот же Алеко, и Татьяна. Алеко – тип исторического мирового страдальца, не умеющего и не могущего примкнуть ни к какому строю общественной жизни, потому что ему нужен строй идеальный; Алеко бежит к цыганам, туда, где нет законов. Эти мировые мученики в то же время необходимо являются и скитальцами. Тип этот беспрерывно сохраняется в истории нашего народа; эти скитальцы и теперь продолжают свое скитальчество, и если теперь в погоне за идеалом не пойдут к цыганам, то ударятся в социализм, потому что русскому скитальцу для успокоения нужно всемирное счастие, – меньшим он не помирится. Эти лица оттеняют общий слой нашей интеллигенции, представители которой служат казне, служат на железных дорогах, читают даже иногда лекции, но у них никогда не явится стремления бежать к цыганам… Но всем нам великий поэт указывает спасительную дорогу смиренного общения с народом. Алеко был искренним, хотя и фантастичным страдальцем. Он был единицею массы, воспитанной в закрытых стенах русских институтов и разделенной на XIV классов; он тоже, вероятно, обладал крепостными, и он убежал, убежал туда, где нет гнетущих законов, где его встречает, по выражению одного поэта, «дикая» женщина… Но Алеко не мог ассимилироваться и с этой первобытной средой. Он не годился не только для всемирной гармонии, но даже для цыган; они его прогоняют, он отвечает убийством, и – вот мораль нашего поэта, решающая наш русский вековой проклятый вопрос: «Смирись, гордый человек!»
Евгений Онегин – тот же тип с его отличительными чертами. Он является из Петербурга, и непременно из Петербурга; он также не может никуда примкнуть, также сознает невозможность какой бы то ни было работы на родной почве. Почему? Может быть, также из хандры по мировому идеалу.
Следующий тип, положительный, – тип Татьяны. Такого образца художественной красоты мы не встречаем ни у одного из наших крупных талантов; разве только он повторился в образе Лизы «Дворянского гнезда»… (Здесь оратор был прерван шумными рукоплесканиями в честь присутствовавшего И. С. Тургенева). Онегин, встретив Татьяну, эту чистую, непорочную девушку, не сумел распознать ее внутренней красоты и признал ее нравственным эмбрионом, а таким эмбрионом был он сам. Я удивляюсь, говорил г. Достоевский, почему Пушкин не сделал Татьяну даже героиней поэмы и не дал поэме имени этой девушки!.. Тлетворное влияние светской жизни не тронуло Татьяну. Она отвечает Онегину, пришедшему к ней с любовью: «Я другому отдана и буду век ему верна»… Может быть, скажут, что у Татьяны не хватило смелости порвать связывавшие ее путы и отдаться личному счастью? Нет. Русская женщина смела, и она не один раз доказала это. Нет! Татьяна как русская женщина сознает, что она не может построить свое счастье на несчастии другого. Да и какое русское сердце не откажется от своего личного счастья, если для него необходимо замучить хоть одно человеческое существо? какой русский согласится быть архитектором подобного здания? Мне скажут, что Татьяна, поступая таким образом, разбивает сердце Онегина. Но разве Татьяна не разглядела, что Онегин любит не ее, а свою фантазию, что он – лист, несомый вихрем! И будь она свободна, она уже не пошла бы за него, предвидя разочарование, предвидя несчастие…
Есть у поэта и еще русский тип – тип монаха-летописца. Сколько бы можно сказать о нем!.. Стало быть, есть в русском народе дух, есть жизненная сила, есть вера, а коли есть вера, есть и надежда… И ни один русский писатель не уяснил нам так сущности русской натуры, как Пушкин. Правда, есть одно-два исключения, но и эти исключения, в большинстве случаев являясь господами, старались поднять народ до себя… но всем, что в них есть хорошего, они обязаны Пушкину. Не было бы Пушкина и не было бы последующих талантов, не было бы веры в русскую самостоятельность. Он первый дал нам прозреть наше значение в семье европейских народов. Он сам был отзывчив и уяснил, что всемирная отзывчивость есть отличительная черта нашего народа; явление такого поэта не есть ли явление пророческое? Он раскрыл нам русское сердце, он показал нам, что оно неудержимо стремится к всемирности и всечеловечности. Производившее столько волнений разделение русского общества на славянофилов и западников есть только одно великое недоразумение. Россия любит человека. Она постоянно служила Европе, может быть, больше, чем себе самой. О! народы Европы не знают, как они нам дороги! И нам остается еще задача – указать исход европейской тоске, не мечом, не экономическими правилами, не наукою, – а любовью русского сердца. Пусть наша земля – нищая, но ее из конца в конец Христос исходил, благословляя… И если бы Пушкин был жив, мы стояли бы ближе к решению нашей задачи, он уяснил бы суть русского народа Европе и помирил бы нас с нею…
Как я уже сказал раньше, восторг, произведенный этой речью, был неописанный, и провозглашение Федора Михайловича Достоевского почетным членом Общества словесности было встречено единодушными рукоплесканиями публики и рукожатиями и поцелуями с новым членом членов общества, присутствовавших в этом заседании. Волнение было страшное; многие плакали от возбуждения нервного, некоторые были в оцепенении… После заседания Ф. М. Достоевскому был поднесен лавровый венок.
Выразителем чувств публики явился, вслед за г. Достоевским, И. С. Аксаков. Взойдя на кафедру, он глубоко тронутым голосом прочел свое стихотворение, посвященное «Возлюбленному поэту» и начинающееся словами:
Мы чтить тебя привыкли с детских лет
И дорог нам твой образ благородный…
Это прочувствованное стихотворение по просьбе публики было повторено дважды. При шумных криках одобрения и громких аплодисментах оратор в третий раз появился на трибуне. «Мне ничего не остается более, – сказал он, – как выразить свою радость по поводу замечательной речи Ф. М. Достоевского. Речь эта – событие. Еще вчера могло казаться вопросом – народный ли поэт Пушкин или нет; еще вчера здесь выражалось сомнение, можно ли дать ему имя национального поэта; теперь, слава Богу, вопрос этот упразднен, решен окончательно, и собравшиеся здесь, какого бы образа мыслей и какого бы направления они ни были, – как представитель славянофильского направления, каковым считают почему-то меня, так и представитель западничества, каким считается И. С. Тургенев, – все должны единодушно признать Пушкина национальным поэтом. Пророческие слова Ф. М. Достоевского, как молния, разрезали волны тумана и разрешили пререкания и сомнения – больше об этом говорить нечего!..» <…>


