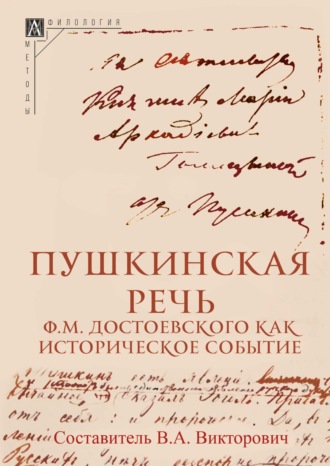
Пушкинская речь Ф. М. Достоевского как историческое событие
<В. А. Гольцев?>
Москва, 10 июня
(«Русский курьер». 11 июня)
<…> На трибуне появился Ф. М. Достоевский.
Взрыв рукоплесканий встретил знаменитого художника и троекратно перекатился по зале. Передать речь Достоевского невозможно: глубже и блистательнее ее нельзя себе ничего представить; форма в ней так слита с содержанием, что никакой отчет не даст и приблизительного понятия об ее силе. К тому же она и произнесена была неподражаемо хорошо. Но мы все-таки должны сказать, хотя вкратце, об этом художественном слове, достойном памяти Пушкина.
Ф. М. Достоевский привел слова Гоголя, что Пушкин есть явление чрезвычайное и единственное. Он положил начало нашего самосознания, он является истинным пророчеством народного духа. В деятельности Пушкина существуют три периода, между которыми однако нет резких границ. Уже в Алеко вложена русская мысль, окончательно развитая потом в Евгении Онегине. Тип несчастного скитальца по родной земле, необходимый исторически, до сих пор не утратил своего значения. Русскому скитальцу необходимо всемирное счастие – дешевле он не помирится. (Взрыв рукоплесканий прервал оратора при этих словах.) Спасение только в смиренном общении с народом, – продолжал Ф. М. Достоевский. – Нужно, чтобы все четырнадцать классов, на которые разбиты русские люди со времен Петра Великого, послушались призыву: «Смирись, гордый человек! Трудись, правдивый человек!» Оратор мастерскою рукой охарактеризовал далее Татьяну, которая глубже и, конечно, умнее Онегина. Только Лиза в «Дворянском гнезде» приближается к светлому образу, созданному Пушкиным. (Опять раздались громовые рукоплескания.) В третьем периоде своей деятельности великий поэт обнаружил поражающую способность усвоять дух всех других народов. Арабские стихотворения Пушкина как будто взяты из самого Корана. Под монологом «Скупого рыцаря» с гордостью подписался бы сам Шекспир. В этой недосягаемой для Запада многосторонности Достоевский видит национальную славянскую особенность. Вместивши в себя всё богатство европейского духа, Россия и славянство внесут примирение в европейские противоречия. Оратор замечает, что его слова могут показаться восторженными, самонадеянными. Нищей ли России исполнить такую великую задачу? Но сила духа выше и могучее всякой иной. Русский может легче немца, француза или англичанина стать всечеловеком.
Когда кончил г. Достоевский, зала задрожала от рукоплесканий, которые гремели и перекатывались в течение нескольких минут. Знаменитому писателю присутствовавшие женщины поднесли венок и сами увенчали автора романа «Преступление и наказание».
После речи Ф. М. Достоевскаго заседание было прервано. По его возобновлении на кафедре появился А. Н. Плещеев, прочитавший свое прочувствованное стихотворение в честь Пушкина. По требованию присутствовавших поэт прочел вторично свое произведение.
И. С. Аксаков сказал, что едва ли кто-нибудь из присутствовавших испытывает такой восторг от речи Достоевского, как сам г. Аксаков. Последний собирался говорить именно на тему, так художественно, так гениально обработанную Достоевским. Отныне вопрос о том, народный ли Пушкин поэт, решен окончательно, и толковать больше нечего. Благословим память великого писателя, нас всех объединившего. (При этих словах раздались единодушные и сильные рукоплескания). <…>
Московские вести
(«Русские ведомости». 11 июня)
<…> Возвращаемся к заседанию Общества любителей Российской словесности 8‑го июня. Как мы говорили, самою выдающеюся речью на нем была речь г. Достоевского. Оратор поставил себе задачею определить творческое значение Пушкина и для выяснения своей мысли разделил творчество поэта на три периода. В первом периоде замечается подражание иностранным образцам, но выступает наружу и самостоятельность. Тут впервые выводится тип русского бездомного скитальца, Алеко, который является продуктом русской «бессмысленной» (sic) интеллигенции. Оторванный от родной почвы, неспособный со всем смирением войти в общение с народом, он стремится к водворению на земле всемирного счастья. Дешевле не возьмет русский скиталец, с иронией прибавил оратор. Социализма в то время не существовало, и Алеко идет в цыганский табор. Но отсюда его изгоняют за его гордость, которая составляет отличительную черту русского скитальца. Второй такой же тип выставлен в Онегине. Он едет в деревню из Петербурга, непременно из Петербурга – эта черта не случайно выведена у Пушкина, едет с хандрою в душе. Всемирное страдание Онегина не больше как «лакейское» подражание Байрону. В противоположность Онегину Пушкин рисует образ Татьяны – этот высший тип положительной женской красоты, тип, который не повторялся впоследствии, кроме, может быть, тургеневской Лизы (громкие рукоплескания). Татьяна имеет свои крепкие нравственные устои. Во время позднейшей встречи в Петербурге она заявляет Онегину, что любит его, но она «другому отдана и будет век ему верна»: она не желает построить своего счастья на несчастьи другого, любящего ее человека. Но и без этой любви она бы не пошла за Онегиным, зная его бессердечность и пустоту. Коснувшись слегка образа Пимена, г. Достоевский заметил, что Пушкин, создавая этот величавый тип, взятый из народа, засвидетельствовал тем самым, что смиренно верит в величие народного духа, а не относится к нему с тем высокомерием, которое характеризует позднейших писателей. Но всё значение Пушкина как народного поэта проявилось в третий период, когда он пророчески прозрел дух русского народа. Пушкин один только понял чужеземные идеалы с необычайною отзывчивостью. Но он не только умел отзываться на эти идеалы – он достиг того, чего не достиг ни один поэт на свете: он умел «перевоплощаться в чужую народность». У Шекспира итальянцы – те же англичане. У Пушкина в «Скупом рыцаре», «Дон-Жуане», «Пире во время чумы», в «Египетских ночах» и во многом другом воссоздается с полною реальностию миросозерцание чужих народностей. Это невиданное и неслыханное, чисто пророческое указание истинно русского народного духа, которого сущность заключается во всемирном братском восприятии и единении с человечеством, во всечеловечности. Петр Великий, вводя свою реформу и пересаживая европейскую науку, действовал не из узкого утилитаризма, а как носитель, хотя и бессознательный, миссии русского народа, заключающейся в примирении противоречий европейской цивилизации. Всё наше западничество и славянофильство не больше, как недоразумение. Для настоящего русского задача русского народа должна заключаться в объединении Европы во имя идеи братства, в снятии противоречий и в произнесении окончательного слова по Евангелию Христа. Россия два последние века уже служит Европе; направление всей нашей внешней политики находит полное объяснение в помянутой задаче, а не в близорукости дипломатов. Пусть не укоряют нас, сказал г. Достоевский, в восторженной самонадеянности: мы хотим заявить о нашей миссии не экономическим прогрессом, мечом или наукою, а только духом братского соединения. Нам ли, нищим, брать на себя такие миссии? Но в нашей нищей земле проповедовалось апостолом слово Спасителя, сам Иисус родился в яслях. Живи Пушкин, и он фактически осуществил бы идею всемирного объединения, но он умер, унес тайну, и «мы без него высказываем ее».
Речь г. Достоевского искренностью своего тона и художественными достоинствами изложения произвела на всех сильное впечатление; члены Общества любителей словесности поздравили его и избрали своим почетным членом; массу же слушателей она привела в неописуемый восторг. Это и понятно. Сказать массе в глаза, да притом в художественно-восторженной форме, напоминающей страницу из апокалипсиса, что масса эта составляет «избранный Богом народ», из которого должен выйти новый мессия для спасения человечества, что она сама коллективный мессия, – значит обеспечить себе ее энтузиазм.
Следующая речь принадлежала И. С. Аксакову; он заявил, что после г. Достоевского, окончательно решившего вопрос о народности поэзии Пушкина, он не считает нужным воспользоваться правом слова. Славянофильство, представителем которого меня считают, – сказал г. Аксаков, – и западничество, представителем которого является И. С. Тургенев, одинаково признают достоинства этой речи. Она событие, она примирила оба направления. В это время И. С. Тургенев хочет что-то сказать, но поднявшиеся аплодисменты не дают ему возможности вымолвить ни слова. По требованию публики г. Аксаков произнес свою речь, в которой трактовал о народности поэзии Пушкина. <…>
Нескромный наблюдатель <А. М. Дмитриев>
Отблески «пушкинских дней»
(«Русская газета». 12 июня)
<…> Какое грандиозное, светлое впечатление произвела речь г-на Достоевского на втором заседании Общ<ества> люб<ителей> росс<ийской> сл<овесности>, этого передать невозможно, как невозможно передать и самую речь. Что-то подавляющее, никогда еще не испытанное нами пережили мы в эти моменты страстного подъема чувства. Начатая довольно тихо, она, по мере развития ее, всё росла, крепчала и, точно громом Божьим, в последнем возгласе оратора прогремела! Прежде аплодисментов ее сопровождали слезы и истерики. Да, светло, хорошо было! И откуда у этого маленького ростом человека взялись эти могучие, чудные звуки! Гений своими крылами осенил…
Окончилось чтение, поздний вечер наступил, но мы видели еще людей, которые, склоня голову, с печатью светлого чувства на челе, сидели и, погруженные в эти чарующие заветные мысли, безмолвствовали.
– Я не знаю, что со мною! – говорил нам один петербургский литератор, наш дорогой гость. Только воду я пил сегодня, а между тем я пьян, я не владею своею головою! В ней до сих пор еще шумят и бунтуют эти святые мысли. До боли жгучие, они не дают мне покоя, но я… я и не хочу его!.. <…>
<А. И. Введенский?>
Петербург, 11 июня
(«Страна». 12 июня)
<…> Скромно было, относительно говоря, чествование памяти Пушкина в Петербурге; оно служило лишь откликом на празднество, происходившее в Москве. А что же было произнесено от лица русского общества там, в «центре» русской земли, по выражению А. А. Потехина, там, где памятнику Пушкину поклонились Тургенев, Островский, Достоевский, Я. П. Полонский, А. Н. Плещеев, А. Н. Майков, А. А. Потехин? Они, а с ними и несколько талантливых публицистов: гг. Аксаков, Юрьев, Катков произнесли прекрасные речи. Но было ли сказано ими слово, такое слово, которое выражало бы современную русскую мысль и потому было бы достойно памяти поэта, дорогого именно тем, что в нем русское общество впервые познало свое народное «я»?
Перед нами тексты главных речей, слышанных в Москве. Рукоплескали им всем, как подобает на празднике; но останется ли от них что-нибудь, какое-либо указание, поучение, пригодное для русской жизни? Если послушать репортеров, то пришлось бы отвечать утвердительно. Нескольким речам присвоено было даже название «настоящих событий»; а ведь события – остаются и должны приносить плоды. По отзыву И. С. Аксакова – речь Достоевского была «настоящим событием»; действительно, она и была «событием» в том смысле, что побудила г. Аксакова изменить речь, приготовленную последним, и повела к избранию Достоевского почетным членом Общества любителей словесности, стало быть, речь Достоевского имела уже фактический результат. По другим отзывам, событием была речь А. А. Потехина, потому что он предложил поставить еще в Москве памятник и Гоголю; а так как за этим предложением тотчас последовала подписка и собрано было до трех тысяч рублей, то и эта речь произвела уже положительный результат, еще более значительный, чем первая. Наконец, иные называют событием еще и речь М. Н. Каткова, называют не без основания, так как и это событие также вызвало факт: П. А. Гайдебуров подошел к М. Н. Каткову и пожал ему руку.
Но вот празднество кончилось; участники его рассеялись, и внимание печати точно так же рассеялось на текущие дела. Достаточно ли для нас тех «событий», которые произошли в Москве, и ограничится ли их действие теми результатами, какие непосредственно последовали? Конечно, нам могут возразить на это, что невозможно было и ожидать, чтобы в публичных речах высказалось с полным простором современное положение страны и задушевные ее желания. Но в таком случае – в этом-то именно и заключалось истинное «событие»; в том, например, что и 43 года по смерти Пушкина не всякое из самых чистых и возвышенных его произведений могло бы быть прочтено вслух без пропусков на Пушкинском же торжестве. В этом смысле не сила произнесенных речей была знаменательна, но скорее – неполнота, недостаточность их.
С действительными полнотою, единодушием и убедительностью была только воздана хвала гениальному нашему поэту. Пока ораторы держались в этой сфере, они в самом деле выражали несомненное чувство всего русского общества в этот день, день воздаяния великим народом почета великому певцу его. И здесь в первом ряду должна быть поставлена речь просвещенного московского архипастыря, митрополита Макария. Он говорил на тему «вечной памяти» Пушкину, превосходно определил право поэта на вечную память в русском народе, и ничто сказанное высокопреосвященным оратором не подлежит спору, потому именно, что он держался единственно в области высокого духовного значения обновителя литературы – для всего народа. Речь митрополита Макария хороша еще и по красоте языка, и по заключению ее высокопатриотическою молитвой: «от лица всей земли русской да посылает ей Господь еще и еще гениальных людей и великих деятелей не на литературном только, но и на всех поприщах общественного и государственного служения».
Хороши были и те части речей гг. Достоевского, Островского, Потехина, в которых провозглашалась слава Пушкину как преобразователю литературы, творцу нового, самобытного ее периода. Но не трудно понять, что во всем этом не может быть никакого указания для современности потому именно, что здесь прославлялась сила гения. Никому из современников не дано быть Пушкиным, а стало быть, никакого указания для современности из этой области суждений – повторяем – нельзя и извлечь. Когда явится новый Пушкин, то он сам и скажет новое слово; а до тех пор нам остается только приносить дань удивления Пушкину.
Но как только некоторые из ораторов пробовали спуститься с этой высоты на землю и под наплывом возвышенного чувства что-либо вещать для нашего современного общественного сознания, для наших целей в будущем, то широкий поток красноречия суживался в тонкий ручеек, текущий на жестком, каменистом лоне действительности, или – если продолжал бить с прежней силой и шумом, то бил красивым, но бесплодным фонтаном, снова вверх, на воздух, в область фантазии «не от мира сего», ничего не расчищая, ничего не оплодотворяя.
Какую пользу может принесть нам, например, то указание на русский народный идеал, какое дал г. Достоевский? Толкуя с значительною натяжкой «Цыган» и «Онегина», оратор видит в Пушкине – «всечеловека», провозвестника «будущего всемирного братства».
По телеграфированным словам оратора:
«Пушкин был всечеловек, и этим он народен – пророк воссоединения, будущего идеала, истолкователь русского сердца, которое стремится к великой гармонии и братству по Христовой заповеди».
Но что же из всего этого следует? Начать с того, что некоторые новые славянофилы усвоили себе обычай смеяться над словом «общечеловеческое», постоянно противополагая этому понятию другое – русское, национальное. Нарочно, для смеха выдумали они слово «общечеловек» и постоянно трунили над этим «общечеловеком». Г. Достоевский не принял этого слова, но придумал новое – «всечеловек», и к понятию, им представляемому, относится с восторгом. Удачнее ли «всечеловек», чем «общечеловек» – это для нас безразлично. Почему стремление к «всечеловечности» и к «великой гармонии» есть и должно быть отличительным свойством русской народности – этого мы не можем понять. Мысль о братстве всех людей не есть и не может быть достоянием одного народа уже просто потому, что если бы другие народы не могли проникнуться ею, то она сама оказалась бы совершенно бесполезной. Да и где же доказательство, что именно в этом заключается особый идеал русской народности? Неужели только в том, что Пушкин «одинаково художественно создавал и русские, и иностранные типы и в этом смысле он – выше всех поэтов вселенной»? Но Шекспир создал бессмертные типы ревнивого мавра и скупца-еврея; Шиллер дал живые и верные типы Филиппа испанского, Доминго, Фиеско, Карла VII французского; у Виктора Гюго национально верны и Эрнани, и Лукреция Борджиа. Положим, из этого следует, что великие писатели всех народов – «всечеловеки»; но уж тогда никак не следует, что мысль о всечеловеческом братстве есть специальная принадлежность которой-либо литературы и какого-либо одного народа.
Заметим еще г. Достоевскому, что мысль его даже не оригинальна: раньше его немецкие писатели старались усвоить германскому национальному гению идеал общечеловечности и стремления к общему братству, истекающего из лучшего знания немцами особенностей других народов. Что же, нам спорить ли с немцами, что мы – настоящие «всечеловеки», а не они?
Но главное – к чему всё это? Представим себе общество, которое сочло бы себя удовлетворенным такой программою, какая заключается в «стремлении к великой гармонии»; это было бы общество мечтателей, а не деятелей. Оставался бы все-таки открытым вопрос о том, «как» стремиться к общей гармонии? Нужным ли окажется для этой цели начать с того, чтобы улучшить условия своего собственного быта? Но в таком случае ближайшая программа вовсе не заключается в стремлении к всечеловечности. Или же ничего у себя переменять не следует, а просто надо пылать любовью ко всему человечеству и утешать себя тем, что такова задача, специально возложенная на Россию Провидением? Но в таком случае – это есть программа застоя в настоящем с мечтою о «гармонии» в будущем.
К житейской прозе точнее, чем г. Достоевский, подошел И. С. Аксаков:
«Россию подвергали внутри и извне насилию. Рукою палача совлекалась одежда русская. Богатый русский язык уродовался. Всё дорогое подвергалось осмеянию. Внутренний быт калечился. Чуждая нам жизнь Европы вгонялась силою. Русский народ отдавался в рабство иноземцам и у себя дома попал в малолетки» и т. д.
Так передает одна телеграмма существенное место в речи председателя бывшего Славянского комитета в Москве. Мы очень хорошо знаем, что программа г. Аксакова вовсе не так туманна, как программа г. Достоевского. Но он ее не мог высказать теперь, да она еще и… не вполне готова. Вполне определенны у прежних славянофилов только сожаления о прошлом, но взгляд на задачу в будущем у них всегда оставался незаконченным. А зависело это от нежелания понять, откуда в России происходило пренебрежение к русско-народному: от той ли причины, что намеренно старались унизить всё русское (чего, по крайней мере с 1825 года, вовсе не было) или что пренебрегали всем народным, не хотели справляться с народным голосом, признать нравственных потребностей общества? Если верно это второе толкование, то пришлось бы признать, что далеко не вся «жизнь Европы» вгонялась к нам, а не выносилось из нее именно то, что и нам было бы вовсе не чуждо, как никому и никогда не бывают чуждыми естественные условия простора.
Ближе всех коснулся непосредственной задачи талантливый М. Н. Катков. Он как публицист угадывает то слово, с которого должно начаться наше обновление. Слово это – «единение». Вот некоторые его слова:
«Я говорю под сению памятника Пушкина, и потому надеюсь, что мое искреннее слово будет принято дружелюбно всеми без исключения. Кто бы мы ни были и откуда бы ни пришли, и как бы мы ни разнились во всем прочем, но в этот день, на этом торжестве мы все, я надеюсь, единомышленники и союзники. Кто знает, быть может, это минутное сближение послужит залогом более прочного сближения в будущем и поведет к замирению, по крайней мере, к смягчению вражды между враждующими…
На русской почве люди, столь же искренно желающие добра, как искренно сошлись мы все на празднике, могут сталкиваться и враждовать между собою в общем деле только по недоразумению».
Что мы можем возразить против этих слов? Ничего. Мы сами в статье на праздник 6 июня взывали к единению, к прекращению розни, которая всех нас обуяла; но мы указывали и на средство: на единение в общей дружной работе самоуправления; когда она закипит на Руси, мы будем спорить только об интересах, но перестанем заниматься праздным переделыванием всего русского типа на произвольные образцы.
Несмотря однако на такое случайное совпадение по тому же поводу наших слов с словом московского публициста, мы – не подали бы г. Каткову руки. Мы подождали бы, когда он докажет нам на деле, что отказался от основных условий своей деятельности, не станет всех и всё заподазривать, повсюду указывать предательство, ковы, измены и «тайные происки» партий. Г. Катков ныне признает «общее дело» и сожалеет о «недоразумении». Для того, чтобы устранить всякое недоразумение и указать на то общее дело, которое мы согласны защищать хоть вместе с г. Достоевским и даже с г. Катковым – если только их устраняло доселе от этого дела лишь недоразумение, – мы скажем несколько заключительных слов.
Русская мысль, уважаемый г. Достоевский, не есть стремление к всечеловеческой гармонии, но, как мысль каждого иного народа, она есть сознание главных потребностей народа и настоятельности их удовлетворения; русская мысль теперь заключается в том, что русское общество уже вполне созрело для прямого влияния на ход дел страны. Истинное, плодотворное единение, г. Катков, должно осуществиться не в том, что вы заговорили о «смягчении» нравов – в праздничный день и притом в такое время, когда не на вашей улице был праздник; также и не в том, что г. Гайдебуров подал вам руку. Единение может состояться лишь в общем стремлении доказать зрелость русского общества и полную его готовность к воспринятию новых преобразований, долженствующих обновить условия нашего быта.


