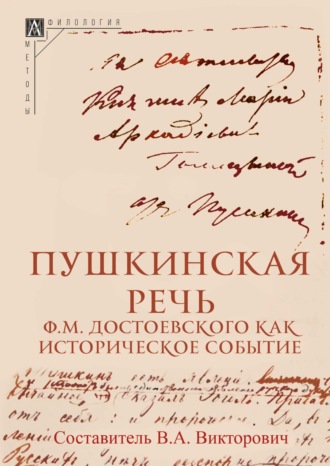
Пушкинская речь Ф. М. Достоевского как историческое событие
Ф. М. Достоевский – П. М. Третьякову
14 июня
<…> Будьте уверены, что теплый привет Ваш останется в моем сердце одним из лучших воспоминаний дней, проведенных в Москве, – дней, прекрасных не для одного меня: всеобщий подъем духа, вообще близкое ожидание чего-то лучшего в грядущем, и Пушкин, воздвигшийся как знамя единения, как подтверждение возможности и правды этих лучших ожиданий, – всё это произвело (и еще произведет) на наше тоскующее общество самое благотворное влияние, и брошенное семя не погибнет, а возрастет. Хорошие люди должны единиться и подавать друг другу руки ввиду близких ожиданий. <…>
<Л. А. Полонский>
Москва. Пушкинский праздник
5–8 июня
(«Страна». 15 июня)
<…> Подробное описание остальных двух дней праздника пришлю в следующем письме. Теперь же скажу только, что Ф. М. Достоевский получил громадные овации за свою речь, читанную им во втором заседании общества, в которой он разъяснял тип русской женщины, как он выразился в Татьяне из «Евгения Онегина»; причем московские дамы поднесли ему огромный лавровый венок, а члены общества тут же словесным избранием единогласно выбрали его в свои почетные члены. <…>
<П. А. Гайдебуров?>
Пушкинское торжество
(«Неделя». 15 июня. С. 762)
<…> В воскресенье 8 июня состоялось второе публичное заседание «Общества любителей российской словестности», на котором говорили: Чаев, Достоевский, Плещеев, Аксаков, Калачев, Бартенев и Потехин. Наибольший успех имела обширная и блестящая речь г. Достоевского, о которой однако трудно дать понятие, пока она не появится въ печати. <…>
<П. А. Гайдебуров>
Литературно-житейские заметки
(«Неделя». 15 июня. С. 769)
Ну, это настоящее открытие! Это груды золота там, где предполагался чуть не мусор. Положим, я знал, что мы – люди так себе, ничего, но я знал и то, что мы изрядно поистрепались, изверились, засохли и что нас ничем уже не проберешь. И вдруг оказывается, что в нас есть и сила, и энергия, и огонь, и энтузиазм, и потребность единения, и даже любовь. Это в нас-то – которые только и делали, что хныкали да ныли, либо хихикали да ухмылялись!
Мне предстоит говорить о пушкинском торжестве, с которого я только что вернулся, но я, право, не знаю, как и о чем буду я вам рассказывать. Прежде всего, мне немножко боязно дотрогиваться до тех впечатлений, какие я вывез из Москвы. А ну как эти впечатления, которые я теперь считаю сокровищем, вдруг окажутся фальшивой ассигнацией, настолько ловко подделанной, что я принял ее за чистую монету! Ведь это будет ужасно! Я знал одну крестьянку, которая лет двадцать хранила в кубышке небольшую сумму денег и, несмотря на всю свою бедноту, считала себя счастливицей; но вдруг, когда ей понадобилось разменять заветную бумажку, оказалось, что ее сокровище не стоит ни гроша, ибо старые ассигнации давно уже заменены новыми. Разумеется, ей ничего больше не оставалось, как сойти с ума, что она и сделала. С другой стороны, возможно и то, что хотя для меня эти впечатления так и останутся сокровищем, но вам они покажутся все-таки фальшивой ассигнацией, ибо я не смогу передать их как следует, да и вы не воспримете их так, как воспринял я, потому что для этого нужно, во‑первых, быть мною, а во‑вторых – видеть и пережить всё то, что видел и пережил я. Вы меня прекрасно поймете, если имеете счастье любить и быть любимым – только не той ходячей пятикопеечной любовью, какою пробавляется большинство, чувством физической страсти или привычки исправляющих должность любви, а той, для которой не существует ни расчетов, ни житейских соображений, ни логики, ни закона, ибо она сама себе и логика, и закон. Попробуйте-ка передать другому то, что возбуждает в вас эта любовь: вас поймут только те, кто сам испытал такое же чувство, и больше никто. Пушкинский праздник был для меня именно такой любовью – не только с теми же наслаждениями и восторгами, но и с теми же муками и терзаниями, какие неизбежны при сильной любви.
<…> во втором заседании «Общества любителей российской словесности» Достоевский произнес такую речь, какой мы еще не слыхивали. Если хотите, она была тоже на тему о примирении – примирении между славянофилами и западниками во имя русского народа, носящего в себе идеал «всечеловека»; но главное в ней было не это. Впрочем, сказать по правде, я и сам хорошенько не знаю, что было в ней главное: блестящая ли характеристика Евгения Онегина и Татьяны, новое ли освещение Пушкина с таких сторон, которым мы не придавали до сих пор никакого значения, или вдохновенный тон всей речи. Я знаю только, что когда Достоевский кончил, – в зале раздался уже не шум и гам, а какой-то сплошной вопль; знаю, что все повскакивали со своих мест и бросились к эстраде, где члены общества жали руки Достоевскому и наперерыв целовали его; знаю, что одна дама упала в обморок, а с каким-то молодым человеком сделалась истерика; знаю, что Аксаков, который должен был читать после Достоевского, наотрез отказался от своего слова, а когда его заставили-таки взойти на кафедру, он громогласно заявил, что после гениальной речи Достоевского исчезли всякие недоразумения, что теперь ему, якобы славянофилу Ивану Сергеевичу Аксакову, остается протянуть руку якобы западнику Ивану Сергеевичу Тургеневу – и затем больше толковать не о чем.
Это была уже крайняя, предельная степень возбуждения на пушкинском торжестве, выше которой оно не могло подняться. Да в этом уже и надобности не было: это был финал четырехдневного праздника, после которого оставалось сесть в вагон и ехать домой.
Но прежде чем сделать это, я взял извозчика и отправился еще раз взглянуть на памятник Пушкину. Подле него всё еще толпился народ и было движение. Одни подъезжали, другие уезжали, одни приходили, другие уходили. У самого пьедестала какая-то чуйка разбирала по складам надпись на правой стороне: «Слух о-бо мне прой-дет по всей Ру-си ве-ли-кой и на-зо-вет ме-ня всяк су-щий в ней я-зык». Я отошел в сторону и стал смотреть на памятник издали. Я думал здесь, у монумента того, во имя кого мы съехались со всех концов России, собрать свои четырехдневные впечатления, проверить их и дать им какое-нибудь название. Но я смотрел-смотрел, думал-думал – и ничего не мог выдумать. Чувствовалось, что на душе светло и хорошо, чувствовалось, что за эти дни стал лучше, выше, чище, но что, как и почему – оставалось неясным… У памятника шло всё то же движение: одни приходили, другие уходили, одни приезжали, другие уезжали. Я тоже сел и уехал.
Если таким образом я сам для себя не мог и до сих пор не могу определить: что, как и почему – в состоянии ли я сделать это для вас? Не сердитесь поэтому, если я не сообщил вам и тени того, что пережил и перечувствовал сам, и не называйте моего сокровища – фальшивой ассигнацией. Поверьте мне на слово, что несчастный тот человек, кто не был на пушкинском празднике.
Из газет и журналов (русских и иностранных)
(«Молва». 15 июня)
Речь Ф. М. Достоевского, возбудившая такой неистовый фурор в заседании «Общества любителей российской словесности», напечатана целиком в «Московских ведомостях». Читатели, заинтересованные как небывалыми до сего времени овациями, с которыми речь эта была встречена при ее прочтении, так и всем, что об ней писалось в газетах, пожелают, вероятно, прочесть если не полный текст речи, то по крайней мере наивозможно подробное из нее извлечение.
Но, к сожалению, мы не будем в состоянии удовлетворить этому желанию читателей. Речь Ф. М. Достоевского в полном тексте имеет гораздо меньшее значение, нежели какое она имела в телеграфной передаче. Краткость телеграммы вызывала предположения, возбуждала воображение, заставляла предполагать что-то гораздо большее, чем было в действительности. Краткое извлечение из речи убило самую речь.
Как взглянет читатель, напр., на следующее поучение, которое Ф. М. Достоевский преподает русскому культурному человеку:
«Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя, и станешь свободен, как никогда, и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его».
По мнению г. Достоевского, будто бы эту мысль Пушкин подсказал в «Цыганах» и потом ясно выразил в «Евгении Онегине».
Апофеоз русской женщины, по мнению г. Достоевского, состоит в том, что Татьяна говорит Онегину:
«Но я другому отдана
И буду век ему верна».
Почему же г. Достоевскому кажется, что только одна русская женщина может остаться верною своим супружеским обязанностям? Почему ни в англичанке, ни во француженке или испанке г. Достоевский не предполагает возможным отыскать столько же стойкости и мужества в этом отношении? А те из русских женщин, которые в свальный грех не верят, разве француженки?
Далее г. Достоевский говорит, что Татьяна не могла изменить своему старому мужу, потому что русская женщина неспособна основать свое счастье на несчастии другого:
[Цитируется речь Достоевского от слов «Какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастии?» до слов «…и, приняв это счастье, остаться навеки счастливыми?»; см. с. 12–13 наст. изд.]
Итак, «для возведения здания судьбы человеческой, с целью осчастливить людей» не позволяется замучить даже и одного человеческого существа, хотя бы оно было самым ничтожным из всего рода человеческого. Прекрасно! Мысль истинно честная и христианская. Ну а вы сами, г. Достоевский, как относились хотя бы к последней войне, когда для одного гадательного только освобождения Болгарии приносились в жертву десятки и даже сотни тысяч русских людей? Помнится, вы более всех других восторгались войною и точно так же уверяли нас, что война входит будто бы в идеалы русского человека.
«В европейской литературе, – говорит далее г. Достоевский, – были громадной величины художественные гении – Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим и тем главнейше он и народный поэт. Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себя с такой силой гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин. Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему».
Из этого можно, пожалуй, заключить, что Гамлет, Отелло, Шейлок, Ромео, Лир не воплощение человеческой природы, не всемирные образы, одинаково верные на Востоке и Западе, у полюсов и под экватором, а перевоплощенные только англичане…
Мы привели отрывки только из критической, т. е. сильнейшей части речи г. Достоевского. О славянофильских его побрякушках мы уже не говорим.
Д. К.
Пушкинские дни в Москве. Отчет депутата «Будильника»
(«Будильник». № 24. С. 650–652)
<…> Вторым читал Ф. М. Достоевский. В своей речи он поставил себе задачею уяснить личность нашего великого поэта как пророка будущих судеб и задач русского народа.
«Характерные черты русского сердца и души, – говорил оратор, – выразились в типах, созданных Пушкиным. Цельно вырисовываются пред нами эти типы: как изваянные, стоят они, поражая своею самобытностью, народностью и правдой. Из этих типов г. Достоевский взял три, главных и необходимых для развития его мысли: Алеко (из “Цыган”), Евгения Онегина и Татьяну. Алеко – это тип мирового скитальца, и вместе с тем мирового страдальца. Как ни фантастичны причины его страдания, но самое страдание искренно. Он не может примкнуть к строю своего общества, которое его возмущает, и идет к цыганам, этим сынам природы, признающим только законы своей натуры, но этот мировой страдалец не годится и для жизни цыган. Тип этот неумирающ и беспрерывною цепью проходит во всей русской истории. Эти скитальцы продолжают и теперь свое скитальчество, и если и не пойдут к цыганам, то ударятся в социализм, потому что русскому скитальцу необходимо всемирное счастие, чтобы успокоиться, – дешевле он не помирится… Тип этот выделяется из среды нашей интеллигенции, представители которой служат казне, служат на железных дорогах, читают даже лекции… а этим своим типом наш поэт указывает нам спасительную дорогу смиренного общения с народом. Искренно страдал Алеко, этот фантастический выходец из русского общества, воспитавшегося в закрытых стенах русских институтов, разделенного на XIV классов. Как и другие, Алеко владел, вероятно, крепостными крестьянами – и он ушел к дикарям, где встретил «дикую», по выражению одного поэта, женщину, но оказался непригодным – не только к мировой гармонии – но даже и к жизни с цыганами, которые прогоняют его: “покинь нас, гордый человек”! – вот решение мирового проклятого вопроса, указанное нам поэтом: смирись, гордый человек… Евгений Онегин тот же Алеко, тот же страдалец-скиталец, но более реальный сын своего века; он приезжает из Петербурга, он страдает или, вернее, хандрит от сознания невозможности какой бы то ни было работы на народной почве, может быть, хандрит и по мировому идеалу; встретив Татьяну, эту чистую непорочную девицу, он принимает ее за нравственный эмбрион, между тем как эмбрион этот – есть он сам. Тип Татьяны – это тип положительный. В нем столько художественной красоты и правды, что он представляет нам апофеоз русской женщины, и я удивляюсь, почему Пушкин не сделал Татьяну героиней своей поэмы, не дал ей ее имя. Когда она встречается вторично с Онегиным, уже как член светского общества, она является нам такою же незапятнанною, какою и была. Ее святое внутреннее существо сказывается в ее ответе Онегину: “Но я другому отдана и буду век ему верна!” Может быть, скажут, что она отступила перед роковою чертою по недостатку смелости? Нет! Русская женщина смела, и она не раз это доказывала, но русская женщина никогда не согласится основать свое счастье на несчастии другого. Может быть, скажут, что она разрушила счастье Онегина? Но разве Татьяна давно уже не разглядела, что Онегин любит не ее, а свою фантазию? Разве она не предчувствовала, что, может быть, на другой же день их сближения наступит разочарование, что будет разбито счастье нескольких? Да если бы Татьяна и сделалась вдруг свободною, она не пошла бы за Онегина. Ее действиями руководила только любовь к человеку, любовь чисто-русского сердца. А какое русское сердце согласится быть архитектором такого здания, для построения которого надо замучить хоть одно человеческое существо?! Любовь – вот всё существо этих чисто-русских типов, любовь к человеку. Всемирность, общечеловечность – цель русской народности; стать русским значит, в конце концов, стать братом всех людей, всех человеком. Для настоящего русского Европа и вообще успехи арийского племени так же дороги, как сама Россия. Кто не согласится, что даже в государственной политике Россия, в последние два века, служила Европе более, чем самой себе. Историческое призвание России в том, чтобы изречь слово примирения, указать исход европейской тоске. Пусть наша земля – нищая в экономическом отношении, но ее исходил из конца в конец “Христос, благословляя”, и почему же не ей суждено сказать последнее слово истины? Это предположение может быть названо смелой фантазией, но существование у нас Пушкина дает надежду, дает нам право предполагать, что эта фантазия осуществится. И это было бы еще ближе, возможнее, если бы Пушкин жил долее; но он умер и унес с собою в гроб великую тайну».
Может быть, никогда еще стены залы Благородного собрания не были потрясаемы таким громом рукоплесканий, какой раздался вслед за заключительными словами г. Достоевского. Члены общества вскочили со своих мест, пожимали ему руки. Все без исключений кричали и аплодировали, стучали ногами, махали шляпами и платками. Это был ураган. Многие плакали, возбуждение иных доходило до обморока. Конечно, в изложении нашем эта речь несколько изменилась, а главное, потеряла силу живого и убежденного слова. О силе впечатления можно судить по следующему факту: один молодой человек, потрясенный, стремительно, вне себя, бросился к оратору. Не найдя его там, потому что члены общества вместе с оратором удалились тем временем в смежную с эстрадой залу, молодой человек вбежал туда и упал без чувств; несколько минут продолжался его нервный припадок.
Тут же председатель, г. Юрьев объявил об избрании Федора Михайловича почетным членом Общества, что было принято оглушительными рукоплесканиями; много раз должен был всходить г. Достоевский на кафедру, чтобы отвечать на приветствия и крики. <…>
<А. Н. Пельт?>
Открытие памятника Пушкину
(«Всеобщая газета». 16 июня)
<…> На заседаниях говорили речи многие из наших знаменитых писателей, в том числе И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, И. С. Аксаков и другие. Речь, произнесенная Ф. М. Достоевским на втором заседании, бывшем 8 июня, произвела истинный восторг. О силе впечатления, произведенного на слушателей, можно судить по тому, что зала буквально была свидетельницею истерических припадков; женщины плакали, а один молодой человек стремительно, вне себя бросился к Достоевскому, не найдя его, потому что члены Общества вместе с оратором удалились тем временем в смежную с эстрадою залу, молодой человек вбежал туда и упал без чувств; несколько минут продолжался этот его нервный припадок.
Члены Общества не менее посторонних слушателей поражены были речью; бросились, как один человек, поздравлять оратора, и тут же провозгласили его своим «почетным» членом. Следовавший затем перерыв заседания был довольно продолжителен. Публика недоумевала, изъявляла нетерпение. Но среди Общества, удалившегося в залу, шел вопрос: уж продолжать ли заседание? И. С. Аксаков, которому наступал черед говорить вслед за Достоевским, отказывался от слова, выражаясь, что всё, что он может сказать, будет слабою тенью того, что услышано, и потому излишне. Словом, заседание грозило расстроиться и продолжалось благодаря лишь настоянию публики, чтобы говорил Аксаков, на что он согласился только отчасти, прочитав не всю речь, а только отрывки из нее. Говоривший последним А. А. Потехин предложил ознаменовать Пушкинский праздник подпискою на памятник Гоголю, на что публика отвечала восторженными рукоплесканиями, и в несколько минут было собрано 4000 рублей. По окончании заседания снова потребовали Достоевского и поднесли ему лавровый венок. <…>
Оса <И. А. Баталин>
Ежедневная беседа
(«Петербургская газета». 17 июня)
На столе у меня накопилась порядочная кипа брошюр, статей и разных сочинений, о которых необходимо поговорить, чтобы большую часть этих брошюр потом бросить в угол забвения, составляющий принадлежность каждого редакционного помещения.
* * *
Прежде всего начну с речи Ф. М. Достоевского, от которой в Москве дамы кричали «ура» и в воздух чепчики бросали. Речь эта – или, вернее, этот этюд о Пушкине или, еще вернее, этот психологический подкоп в сокровищницу души скучающего россиянина и благополучной россиянки – напечатана в «Московских ведомостях». Некоторые газеты уже поспешили выругать эту речь уже потому, вероятно, что она явилась в газете г. Каткова. Таков у нас доныне обычай, невзирая на примирительные стремления и проч. Если бы Тедески сделался портным г. Каткова, если бы г. Яблочков вздумал осветить своими свечами редакцию «Московских ведомостей» (по странной случайности он освещает дом г. Краевского), то Тедески стал бы неудовлетворительным портным, а свет г. Яблочкова для глаз неприятным. Не скоро наши судьи-ценители поймут, что литературные приходы пора упразднить и дать свободу талантам идти в любую журнальную храмину, куда им заблагорассудится. В приходе «Московских ведомостей», наконец, служба нисколько не хуже, чем у Василия Блаженного… Ну, да не в этом дело.
* * *
Речь г. Достоевского в чтении производит впечатление, но только на чувство, а не на рассудок – откуда и причина бросания в воздух дамских чепчиков. Пересказать ее весьма трудно, как трудно передать любой роман г. Достоевского, где всё дело состоит не в фабуле, а в психологических тонкостях. Само собою разумеется, что где тонко, там очень уж рвется. Неделикатное обращение с этою тонкою психологическою сеткою было бы варварски жестоко, ибо г. Достоевский плел сеть свою, очевидно, не затем, чтобы ловить ею рыбу в мутной воде. Он имел целью изящно поразить своею работою, он желал воодушевить аудиторию и пробудить в обществе искру чего-то угасающего, о чем с иными господами бесполезно спорить. Он был поэт-оратор, которому позволительно не гоняться за канцелярскою точностью выражений. Между тем к нему делают иные многокопытные критики-обозреватели строгие канцелярские придирки. «Как, – говорят, – позволил себе он сказать, что только русская женщина (образ Татьяны) верна своему семейному долгу? Да разве француженка, итальянка, испанка и т. д. менее верна долгу».
Вот в самом деле любопытный вопрос. Юридически, статистически и даже канцелярским способом вы ни за что не докажете, что французы, итальянцы, испанцы и т. д. более носят рогов сравнительно с русскими, но художник-романист и художник-критик не обязаны руководствоваться этими способами доказательств. Нужны другие органы восприимчивости помимо раздвоенных копыт, чтобы понимать, что Татьяна Ларина немыслима, невозможна ни в какой другой среде, как в русской патриархальной дворянской среде, к сожалению, ныне вымирающей и вытесняемой из своего наследственного уголка разными Самуилами Израилевичами. <…>


