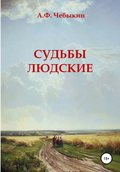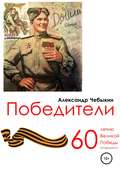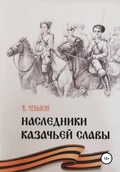Александр Федорович Чебыкин
Русь моя неоглядная
Терентий Торопица – десятник Ермака
Лето 1582 года.
Большие длинноносые лодки тыкались в обрывистый правый берег Камы около устья реки Обвы, недалеко от летней резиденции Строгановых. Левый – каменистыми осыпями круто уходил под воду. Гонцы еще утром донесли Максиму Яковлевичу Аникину-Строганову о появлении Флотилии на Каме. Максим с вестовым передал распоряжение, где остановиться казакам. Подскакал к берегу на взмыленном жеребце. У него нервно дергалась левая бровь, правый глаз смотрел зло. На горбинке носа выступили капли пота. Льняные волосы выбивались из-под шапки-боярки. В Ильинском стояла баржа с солью, прошедшая три дня назад с «солей». Надо было срочно отправлять ее в Нижний, но экипаж лежал пластом на палубе и в кустах, мучаясь коликами в животе и слабостью в теле. Дед-травник отпаивал больных настроем черемухи и молодым брусничным листом. С Чусовых городков приплыл на лодке-плоскодонке посыльный с недоброй вестью: в верховьях Чусовой появились шайки татар – разоряют поселения.
Максим бойко соскочил с коня, широким шагом пошел навстречу Ермаку, долго тряс его огромную руку, как мальчишка радовался приходу казаков. Спросил: «Тимофеевич, сколько привел?» «Да более пяти сотен». Уселись на прибитое к берегу огромное лиственничное бревно. Максим обстоятельно рассказал о делах на Каме, о набегах Пелымского царька, захватах Строгановских земель и разорении поселений татарами, о том, что спрос на соль упал, расходы увеличились. Надо усиливать стражу солеварен, а где брать людей? Местные крестьяне охотно идут на солеварни, но отказываются служить в страже, бояться оторваться далеко от своих семей.
Было первое воскресенье после Троицы – Заговенье. Завтра Духов день, земля-именинница: никаких земляных и соляных работ. Сегодня народ гулял на мыске. По воде доносились звуки распеваемых песен. Атаман велел сотникам оставить дежурных у лодок и отпустить казаков на гулянье. Максим пригласил Ермака в селенье на рыбный пирог. За пирогом решили, что двух месяцев на подготовку в поход за Урал хватит. За это время отдохнут, наберутся сил, пополнят запасы пороха, свинца. Поспеет свежий урожай, наберут с собой припасов, подберут в отряд сотни три удальцов из местного населения.
Черемный, казак, постриженный кружком, с огненной бородкой, лучистыми карими глазами, тощий, выше всех на голову, на игрище выделялся неуемной удалью. Он то ходил по кругу гусем, то крутил колесо посреди хоровода, извивался, как весенний ивовый прут. Парни и казаки завидовали, а девчата не сводили с него глаз. Вдруг выскочила задиристая девчонка лет шестнадцати с зелеными глазами, толстой темно-русой косой и давай отплясывать, припевая частушки. Казак опешил. Спросил:
– Коза-дереза, звать-то как?
– Тятенька с маменькой кличут Танюшкой, а парни Танькой. Зови, как хочешь, можно и Таня, мне так нравится.
– А меня – Терентием, Тереха, Тереша, кому как захочется.
Солнце к закату. Парни и девчата засобирались домой. Хоровод распался. Татьяна побежала к берегу, быстро впрыгнула в лодку-долбленку, отпихнулась от берега и замахала веслом. Тереха выскочил на берег, крикнул:
– Откуда ты, егоза?
– По Сыну я, с Луговой.
Тереха стал переспрашивать, но лодка быстро удалялась. Терентий кричал:
– Я все равно тебя найду!
Подошедший парень сказал:
– Я знаю ее, у нее тут тетка живет.
Какая-то заноза застряла у Терентия в левом подреберье. Ночью плохо спал.
Утром Ермак собрал отряд на поляне, построил по сотням. Разъяснил, что для серьезного похода их маловато. Надо набирать служивых из местных. Места тут глухие, деревня от деревни на десятки километров. Спросил:
– Кто пойдет в вербовщики?
Тереху как кто-то подстегнул, он выскочил вперед и заорал:
– Я пойду!
Казаки зашумели:
– Ты че, оглашенный, орешь, мы не глухие.
Набралось два десятка человек. Строгановский подрядчик стал распределять казаков по рекам, кому куда. Терентий упросил:
– Пустите меня на речку Сын.
Атаман упредил, чтобы к Ильину дню вернулись с новобранцами. По Каме шел под парусами: дул попутный ветер. Через несколько часов добрался до поселка Усть-Сыны. Тут уговорил четырех молодцов, взял расписки. На веслах пошел вверх по реке. Начался покос. Терентий вспомнил, как подростком на Верхнем Дону, где река у деревни была шириной две сажени, косил отцовские наделы. С радостью принимал приглашение на косовицу. Плыл от деревни к деревне. Впереди у костра собиралась молодежь. Терентий весной разменял четвертак. Рассказывал о службе, о прошлогоднем походе в Ливонию с атаманом Ермаком. Показывал шрам от сабельного удара на левом предплечье. Парни после рассказов всполошились, изъявили желание пойти в поход за Кашепь. Но через два-три дня отказывались, ссылаясь, что тятенька не пускает. В деревнях Терентий заходил в каждый дом, надеясь встретить Танюшку. Деревни попадались редко. Река в верховьях постепенно мелела, начались галечники-перекаты, поэтому лодку Тереха больше тащил, чем плыл. Услышал грохот воды, лодку закружило, впереди увидел высокую плотину, а на пригорке кучку домиков. Солнце катилось за горизонт, надо было думать о ночлеге. Подплыл к берегу, привязал лодку к старой ветле, взобрался на плотину. Подошел к мостикам, с которых ныряли в воду мужики и подростки, смывая дневную пыль с тела. Был разгар покоса. Чуть поодаль, под ивой верещали девчата. Терентий загляделся и свалился с мостков. Поплыл к иве. Купальщицы заметили, повыскакивали из воды, попрятались за ветки, мокрые рубашки облепили становины. Терентий выбрался на берег, стал отряхиваться, но одна девица осталась и уставилась на Терентия. Тот остолбенел: передним была Танюшка. Перекрестился:
– Свят, свят, свят. Танюшка, это ты?
Она выпалила скороговоркой:
– Ты откуда взялся?
– Тебя ищу.
– Ну, раз нашел, пойдем к нам. Вечер на дворе, я тятеньке с маменькой о тебе поведала.
Привела в дом, представила родителям:
– Вот тот самый, о котором я вам говорила.
Отец сказал:
– Все глаза выглядела, каждый день на росстань бегала, поглядывала: не прошел ли? Соседям жужжала, если увидите, передайте. К сердцу ты, видимо, припал. Но молода она, замуж ей рано. Одна она у нас, много было детей, да все в детстве поумирали. Не хотелось бы на старости лет оставаться одинокими.
Терентий задумчиво ответил:
– Да не спешу я с женитьбой, в поход собрались за Камень, татар погонять. Один, как перст. Родители от поветрия умерли, да старшие братья и сестры поразъехались, кто куда. Если жив буду, вернусь, у вас останусь. Места тут благодатные и привольные. Танюшку не обижу, не беспокойтесь. Слово казака твердо.
Объяснил родителям, зачем послан в эти места. Отец Татьяны обещал помочь в вербовке добровольцев. Две недели пролетели, как один день. Обходил соседние деревни, набрал полтора десятка парней. Вечерами ходил с Таней на пруд купаться, а по воскресеньям – на игрища. Пришло время собираться. Терентий загрустил, и Танюша сникла. Вечерами тихо плакала в светелке. Перед уходом Терентий попросил отца с матерью благословения, чтобы молились о нем, как о сыне, живом или мертвом. Танюшка разревелась, стоя под образам. Всхлипывая, промолвила:
– Ты, Тереша, не беспокойся, ждать буду и десять зим.
Терентий на обратном пути собрал всю ватагу; набралось более двух десятков человек. Когда пришел в Ильинское, Ермак отобрал двенадцать, остальных отпустил по домам, вручив каждому по гривне за издержки. Назначил Терентия десятником и велел обучать новобранцев стрельбе из пищали, владению саблей и боевым топором.
Через месяц Ермак лично проверил подготовку вновь набранных. У Терентия оказались наиболее подготовленные, за что поблагодарил его. Терентий настоял, чтобы, как положено по обычаю, мужики были приняты в казаки и приведены к присяге. Терентий со своим десятком попросил в сотню Матвея Мещеряка. Мерещаку Терентий понравился за его серьезность, деловитость, взыскательность и прилежность, хотя и был через меру шустр, за что и прозвали «Торопица». Жалованье служивым было выдано на год вперед, а остальное обещано по возвращению.
Терентий отпросился на три дня. Деньги отвез будущим тестю и теще. Наказывал, если вернусь, деньги пойдут на обустройство, а если нет, то половину родителям, чтобы в старости не нищенствовали, а вторую половину – Танюшке, пусть поминает и первенца назовет Терентием.
В Семенов день 1582 года отряд Ермака отправился за Камень мстить татарам за набеги на Пермскую землю. На большом круге было решено не за мелкими отрядами Кучума гоняться, а нанести удар в самое сердце погани, разрушить и столицу – укрепленный городок Кашлык. Когда пленили царевича Маметкула, Терентия Торопицу отправили с его отделением сопровождать Александра Черкаса до Строгановых, но предупредили, чтобы не задерживался и вернулся обратно. Хотелось повидаться с Танюшей, но время поджимало. Успел найти оказию с реки Сын и передать связку соболей – подарок Тане на шубу.
В походе на Тобол Терентий со своими воинами был в дозоре за крутым поворотом, когда казаки вошли в протоку, чтобы передохнуть и немного расслабиться. Неожиданно из-за песка на конях выскочили татары. Подскакали к пологому берегу и засыпали градом стрел. Пока готовили пищали в бою, на первой лодке двух человек убило – Ивана с Обви и Степана с Сына. Стрела впилась Терентию в надплечник, застряла концом в лопатке, вторая стрела пробила кольчужку, но спасла медная ладанка, подаренная Танюшей, как Берегень. Кость долго саднила. Терентий не мог управляться с пищалью. Пришлось тренировать левую руку, чтобы владеть саблей. Ночью на острове, когда уставшие казаки, измотанные многодневными боями, крепко уснули, гроза разбудила казаков. Ветер рвал полога палаток, дождь намочил одежду.
Матвей Мерещак велел Терентию проверить дозоры; дождь лил, как из ведра. При разряде молнии Терентий увидел под деревом с ножом в груди земляка с Дона, казака Мелентия, и в тот же момент почувствовал сильный удар рогатины в грудь, Терентий упал. Сил хватило вытащить берестяной свисток, он загудел, но звук был хилый и слабый. Видел, как метались тени между деревьев. Казаки рубились с татарами. Слышался мощный голос Ермака:
– К челнам!
Рогатина торчала в груди. Стальной ее наконечник пробил ладанку и впился в грудину. Терентий с силой вырвал рогатину, голова закружилась, в глазах потемнело. Превозмогая боль, он пополз к берегу. Слышал всплеск весел отплывающих лодок, крики борьбы на берегу. У берега наткнулся на плотик, оставленный татарами. Нашел суковатую палку, подтянул плотик, взобрался, оттолкнулся. После ливня река вспухла, бурлила, плот закрутило и понесло вниз по течению. Терентий провалился в беспамятство.
Солнечные лучи сквозь ветви деревьев били по глазам. Терентий пришел в себя. Плотик застрял у берега в ветвях старой ивы. Терентий разделся, отжал одежду, повесил сушить на ветки. Достал из-за пазухи огниво и кресало, разжег костер. Сидел на суку, тыкал саблей в воду и вылавливал жирных сазанов. Распотрошил, завернул в листья лопуха и запихал в золу. Утолив голод, стал взбираться на кручу, чтобы определить, где находится. Вдалеке, за изгибом реки, на острове увидел дымки. Решил плыть к ним, метров за триста рассмотрел на берегу казачьи струги. Сердце радостно стучало, билась одна мысль: спасен, спасен, спасен! Достал ладанку и начал ее целовать, одна дважды спасла его от смерти, видимо, Танюшка каждую минуту думает и молится о нем. Подплыл к берегу. Подбежали казаки. Часовой заметил его давно и сообщил товарищам. Навстречу вышел Матвей Мерещаков, широкоплечий, крутолобый со скатавшимися светлыми кудрями, усталыми печальными глазами. Обнял Терентия и пробасил: «Жив, земляк, а мы думали, что на тот свет поторопился, Торопица. Беда у нас, Тереша, Ермака Тимофеевича не уберегли мы. С рассветом ходили на остров, но не нашли его ни среди раненых, ни среди убитых.
Раненые вон в палатке лежат: двое из твоего десятка, как услыхали твой рожок, так и бросились на выручку. С Ермаком не досчитались двенадцати человек: семеро убитых, а где пятеро – неизвестно. Или раненых водой снесло, или в бою на воде утонули. Привезли сюда, тут похоронили, не стали на том проклятом острове оставлять, нечистая сила там».
Рану на груди у Терентия осмотрел сотенный лекарь Захар. Рана загноилась. Захар выскреб ножом попавшую в рану грязь. Страшная боль пронизала все тело, Тереха застонал. Захар упредил: «Дотерпи, сейчас больнее будет». Раскаленным коточиком прижег края раны, наложил повязку с дегтем и шепнул: «Маленько поболит и пройдет, до свадьбы заживет».
После полудня собрали круг. С двумя тяжелораненными и десятком легко, в основном от сабельных ударов, насчитали восемьдесят человек. Сход был недолог. Выступающие говорили, что без головы, куда мы, да и мало нас осталось, к тому же раненые и больные, запасы пороха и свинца на исходе, хлеба неделю не видели, едим конину. Сотник Иван Глухов было предложил идти в Барабинские степи, там хлеба вдоволь, может, и Бухарцев встретим. На что Матвей Мерещаков ответил: «Идти в степи без провианта, запаса пороха и свинца, с ранеными и больными – это значит сложить головы впустую или попасть в рабство». Решили идти домой через Строгановские владения, там у многих родные и знают нас, а также получить обещанное вознаграждение. Отремонтировали лодки, поставили паруса, дул теплый ветер-южак, и отправились вниз по Иртышу до Оби, а там через перевалы на Печору и в верховья Камы. Шли ходко. К концу сентября были в Чердыни. Обратная дорога была нелегка. Осенью 1585 года вернулись семьдесят один человек, многие раненые и больные в дороге скончались.
Максим Строганов знал о гибели Ермака и части его отряда: солеварни закрылись, казна трещала, прежнего величия, славы и власти не было. Но Строгановы были людьми слова. Максим сполна рассчитался с казаками и за погибших надбавил по два золотых. После столования казаки собрались в круг. Матвей Мерещак сказал: «Каждому – воля вольная, кто в семье, а я снова в Сибирь, сердце мое там с моими побратимами. Просторы там необъятные, а главное – воля».
Терентий Торопица решил твердо – пора семьей обзаводиться, да и Танюшка заждалась. Казаки с Сына тоже решили вернуться домой в родные места. Поклялись породниться друг с другом и стоять друг за друга, как брат за брата, потому что единокровными стали после стольких боев и схваток. Пошли к Строганову выторговывать землю. Тот предложил: «Выбирайте любое место, по двадцать десятин на воина хватит». На что Терентий ответил: «Если пахотной, то хватит, добавь десятин по пять леса и лугов». Максим Яковлевич ответил: «Вносите деньги управляющему, а как облюбуете место, сообщите, пришлю землемера».
Многие прикупили на базаре коней. Нагрузившись поклажей, с подарками, отправились по домам. С казаками с Сына увязались казаки с Сюзьвы, Пеломки, Нытвы и два казака с Шерьи. По дороге прощались, обещали гоститься. Казаки заселились на новых местах, образуя деревни с названиями «Казаки» по всей Пермской земле. Терентия ждали, слух о возвращении казаков бежал вперед их. Танюшка места себе не находила. Ночью вскакивала, прислушивалась: не скрипят ли ворота, не приехал ли Тереша. Родители волновались не меньше дочери. Девчонке двадцатый год шел, налилась, похорошела. Парни соседних деревень с ума сходили, сватов засылали, но ответ был один: «Буду ждать Терентия, как обещала, десять зим».
Терентий заявился рано утром в Покров, ночью выпал снег, подморозило. Таня услышала топот копыт за воротами и сунула ноги в валенки, набросила полушубок, выскочила во двор. У ворот заливался лаем пес Дружок. Таня открыла калитку и увидела всадника в седле. Воин пробасил:
– Не пустите ли, хозяева, погреться, озяб сильно, вторую ночь в дороге.
Танюшка услышала родной голос, ухватившись за ногу в стремени, запричитала:
– Родной ты мой, да как я тебя, сокола, заждалась, да все мои очи выплаканы по ночам о тебе, солнышко мое незакатное вернулось ко мне из странствий дальних.
Терентий ловко спрыгнул с лошади, обнял Танюшку. Крупные слезы катились по щекам застревали в бороде.
– Ну, ну не плачь, радость моя, жив, здоров, вернулся к тебе, слово свое сдержал.
Услышав шум за воротами, отец с матерью выбежали из дома, обхватили детей с обеих сторон.
– Сынок ты наш, ждем тебя, пождем каждый день. Слава богу, что, наконец, мы вместе.
Терентий попросил:
– Тятя, помоги сумку снять с лошади, да лошадей напоите теплым пойлом, промерзли мы: всю ночь под снегопадом скакали.
Через неделю играли свадьбу. Терентий передал, что ему разрешено выбрать землю на устройство. Степан упросил, чтобы не трогал землю вокруг деревни. Сколько трудов вложено, пока лес вырубили, да пни выкорчевывали, там за деревней, за выгоном, у изгиба реки, на холме, в прошлом году пожар прошел, лес выгорел дотла, да и луговина рядом для выпаса. Пока сила есть, помогу, бери то место.
На что Терентий ответил:
– Денег хватит нанять мужиков, чтобы пашню вычистить и усадьбу новую завести.
Починок стал называться Торопицино, по прозвищу Терентия Торопицы. В семье было решено во всех поколениях одну из дочерей называть Татьяной, первенца сына – Терентием. Так и шло из поколенья в поколенье, пока не грянула революция, а потом – Гражданская. Род разбросало по земле Российской. Бабушка моя была Татьяна Торопицина и мама Татьяна Торопицина, по деду величалась Татьяна Терентьевна Торопицина. С годами о своем первом роде забыли, только помнили, что Ермаковские были.
2002, 9 апреля
Хождение на Каспий
По переписи 1869 года в деревне девять дворов русские, бывшие Строгановские. Свободны, но землю надо выкупать. Плата округленная: по рублю за десятину. Деньги надо отвезти в Ильинское приказчику Строганова, а пока надо платить за землю отработками, например, нарубить десять сажен сухостоя, или нажечь три короба угля, или справлять лес от Добрянки до Астрахани. В последний день масленицы на двух кошевках, запряженных жеребцами, по деревням проезжали приказчик из Ильинска и волостной урядник из села Григорьевское. Переписывали дворы и договаривались, кто и как будет расплачиваться за землю. Иван Федоскин с сыновьями Прокопием, Самуилом, Мелентием, Марко и племяш Ося Гришин собрались у Федоса Калиновича в старой дедовой избе, которая топилась еще по-черному.
Через небольшие оконца, затянутые бычьим пузырем, пробивался слабый зимний свет. Бабушка Устинья сметала со стола кружево сажи. Федос изругался: «Старая, погодила бы, видишь сын и внуки пришли, дело надо обговорить». Сыну Ивану – пятьдесят, внукам под тридцать. Федос – крупный старик, с редкой бородой, лысиной на макушке, закопченным лицом, скрученный пополам, – то и дело надсадно кашлял. Сыновья давеча звали Федоса к себе – год как представилась их матушка Екатерина – на что Федос отвечал: «Вот как срубит новую избу на дворе ваш Мелентий, так и перейду к нему. А пока ноги ходят, в своей избе я сам себе хозяин, хочу, не печи сплю, хочу на полатях, а то и на приступке. Каждое бревнышко родное, сам отесывал».
Плата деньгами отпадала, где их взять? Хорошая корова стоила 7–8 рублей. Откуда деньги? В хозяйстве все натуральное, самодельное, начиная от деревянной ложки, лоханки, саней, кончая зипуном и валенными катанками. На ярмарках в Ильинском и Григорьевском ничего не продашь. У селян все свои. Товар скупали перекупщики за бесценок. Мужики накапливали с осени кружки топленого масла, туши свиней, баранов везли к рождеству на базар в Пермь.
Останавливались обычно на заимке, где были постоялые дворы. До заимки полтора дня езды, на ночь останавливались в Нижней Курье. Дорога дальняя, более семидесяти верст. Ехал на пяти-шести подводах, так сподручней. Не дай бог отворачивать от встречного ездока. Снега более метра наметает к рождеству, а к масленице около двух. Отвороти в сторону, и лошадь по брюхо в снегу, лопнувшие завертки или треснувшая оглобля. Да и мороз под сорок – дело нешуточное. За возом бежать спина мокрая, в тулупе путаешься, тихо сидеть – коченеешь. Рубить десять сажен в длину и сажень в высоту – это работа всей семьей на два месяца. Двое пилят, один сучкует, подростки прутья собирают к костру. Делянка должна быть вычищена. Утомительная и тяжелая работа с кряжами на морозе.
Жечь древесный уголь – на это нужны сноровка и терпение. Надо подобрать хороший сушняк, нарезать, составить в шиши, обложить его дерном. Вверху невеликое отверстие, сбоку, снизу регулируемая щель для доступа воздуха. Надо великое умение управлять огнем, чтобы бревна потомились и превратились в уголь. Многие пробовали жечь уголь – не получалось: или сгорало дерево дотла, превращаясь в золу, или обугливалось только сверху, а сердцевина оставалась нетронутой. У хорошего обжигальщика, после раскрытия «кучи-шиши», бревна рассыпались в огромные углины. Уголь этот отвозили на плавильные заводы в Григорьевское, Нытву. Из трех сыновей Федоса уголь жечь изловчился только Михаил.
Мужики долго спорили – решили идти на сплав, дело это стоящее: Россию посмотрим и деньги подзаработаем, если повезет. Сплав начинался в конце апреля. За две недели по быстрой весенней воде плоты доходили до Астрахани, а оттуда, если торопно, то за шесть недель добирались домой. Зачастую нанимались тянуть баржи вверх по Волге. Хозяин обеспечивал харчем и еще платил. Среднюю баржу тянули до десяти человек. Время уходило до двух месяцев. К уборке озимых успевали. Было решено: идут вчетвером – Иван с сыновьями Марко и Мелентием, которые жили самостоятельными хозяйствами, и Осип. Мужики плели запасные лапти, сушили сухари, коптили мясо. Отгуляв пасхальную неделю, попрощавшись с родными до начала водополи, Федос отвез сплавщиков в Добрянку. Тут из них формировали бригады: на каждый плот по восемь человек, две смены: рулевого, двух боковых и смотрящего. Запаслись сушняком для очага. Плоты собирали специалисты-плотовщики. На центральном плоту собирали рубленый домик из жердей. Выкладывали на средине плота гнездо из камней, утрамбовывали его вязкой глиной, и место для огня готово.
В апреле и начале мая Кама бурная и полноводная. Вода затапливала окрестности и на стремнине мчалась с гулом и яростью.
Главное на плоту – не зевать, чтобы не столкнуться с встречной баржой или весельным баркасом, чтобы плоты не слетелись друг с другом и не расшиблись. Самый главный на плоту – рулевой и чтобы смотрящий не был раззявой, а боковые обладали недюжей силой – могли вовремя оттолкнуться от встречного препятствия. Помолившись в соборе, мужики отправились в путь. До Казани плыли быстро, без происшествий, встречный транспорт попадался редко. Полюбовались на Казанский кремль. За Казанью в Каму впадала Волга. Два морозных течения встречались недружелюбно, боролись: чья возьмет, за кем будет власть. Плоты на стыке течений начало крутить и разламывать. Бревна стали расходиться, веревки лопаться. Сплавщики носились по плоту от края до края. Плот бросало из стороны в сторону, кругом трещало и охало. Третий разгонял плоты Осип, но по характеру горячий, больше суетился и матерился. Иван только вскрикивал и крестился, а Марко бегал за отцом и орал: «Тятенька, утонем!» Мелеха оказался более догадливым. Он сообразил, что надо править к левому берегу, более пологому, где вода шла тише. Мужики пришли в себя, начали слушаться Мелеху. Плот растрепало, надо было его стягивать. Осип, перевязывая бревна, соскользнул, и ногу зажало между бревен. Заорал: «Спасите, караул!».
Подбежал Иван с багром, отжал бревно, Осипа вытащили, но Иван на мокрых бревнах не устоял и ухнул в воду. Спасибо багро. Успел уцепиться им за бревна. Лапти намокли, тянуло вниз, багро скользило в руках. Пальцы не слушались. Мелеха кричал: «Тятенька, бултыхай ногами!» Но ноги не слушались и их свело судорогой. Мелеха выхватил багор у Марко и еле-еле смог уцепить Ивана за зипун и подтянул к плоту. Вытащили. Рубленый домик перекосился. С Ивана сняли мокрую одежду, выжали, повесили сушить, одели в сухое. Пока вылавливали Ивана, плот отжало к левому берегу и посадило на мель. За лужком виднелась деревня. Мужики стали издали кричать и махать. Подплыл на лодке низкорослый, конопатый, с большими ушами татарин. Представился: «Касим я, Касим! Садитесь по двое в лодку, перевезу в деревню. За плоты не беспокойтесь, дело к вечеру, вода спадает, сейчас плот не сдвинут, и никуда он до утра не денется». Татарин натопил баню, выпарил мужиков, напоил кумысом. Навалил овчины на пол, уложил спать. Утром на завтрак наварил огромный чугун супа из конины, в котором плавали крупные клецки. Пока одевались, полная изба набилась татар, многие хорошо говорили по-русски. Пошли разговоры. Во дворе задымил огромный самовар.
После трапезы на шести лодках поехали к плоту. Плот чуть развернуло. Сообща плот с мели столкнули, но он не двигался по течению. Отталкивались, пока хватала длина шестов. Касим, поругав шайтана, сказал: «В мертвую воду попали, заводь тут». Мимо по разводью двигались плоты, обгоняя друг друга. Касим попросил длинную веревку. Связали двое вожжей, закрепили на плоту. Касим смотал в круг. Мимо заводи медленно проходил плот. Касим кричал плотовщикам, размахивал руками, пояснял. На плоту поняли. Касим покрутил связкой вожжей и взметнул. Веревка полетела на соседний плот. Мужики на плоту успели поймать, Касим приказал отталкиваться шестами, веревка натянулась, плот медленно сдвинулся с места и тихо пошел по течению. Рулевой стал выправлять плот на стремнину. Мужики обрадовались, стали обнимать татар. Иван побежал в избушку, вытащил из сундука рубаху, вышитую петухами и елочками, подарок жены к свадьбе, поднес Касиму. Касим догадался, что это самое дорогое у Ивана, стал отнекиваться. Иван настаивал: «Это память жителям деревни за выручку». Касим, недолго раздумывая, отцепил от пояса кривой нож с инкрустированной серебром ручкой. Иван опешил – он знал цену этому ножу. Распрощались по-братски. Татары отплыли. Мужики долго махали шапками, пока лодки татар не слились с берегом. До Жигулей плыли ходко, пристроившись впритык к другим плотам. Раза два попадали под дождь, но весеннее солнце быстро высушило одежду. У Жигулей началось светопреставление. Скопились плоты, получилось стопорение. Стараясь вырваться из этого затора, больше создали суматохи. У яра плоты попадали в круговорот. Плоты размывало. Над рекой стоял треск, слышались вопли. Спасать было некому. Некоторые сплавщики бросали свои плоты и прыгали на другие. Посовещавшись, решили: пока не зажало подплывающими плотами, чалить к левому берегу на отмель. Отталкиваясь баграми от других плотов, отходили к левому берегу. Плот затянуло в заросли ивняка. Просматривал дно, но и здесь течение еще беспокойное. Раза два застревали между старыми ивами. Приходилось спрыгивать с плота в обжигающую холодом воду, подрубать ивы и так двигаться по течению. Никто не последовал их примеру, думали, что пронесет. Остальные плоты выбрались из затора только через неделю после того, как утихла вода.
К вечеру утесы Жигулевских гор остались позади. Перед Астраханью их встретил строгановский приемщик. Завели плот в одну из проток. Продукты кончились. В мешках осталось по паре пригоршней крошек и сухарей. Приемщик знал, что десятки плотов разбились у Жигулевских гор. За благополучную доставку вручил каждому по три рубля. Рядили, судили, как добираться домой. За пару месяцев можно и пешком, подрабатывая по дороге на хлеб, но можно наняться тащить баржу. Работа эта адская, но зато платят по пятнадцать рублей.
Мелентий, как грамотный и наиболее расторопный, вошел артель из таких же сплавщиков, которые не раз таскали баржи. Договорились. Баржа была среднего класса, груженая товаром из Персии. Хозяин обещал кроме платы кормленку, одежду и обувку (по две пары лаптей). При барже было шесть человек охраны, вооруженные кремневыми ружьями бердышами. Первые дни шли быстро, делали по сорок километров в день. Мелентий смотрел, как их обгоняли парусники. Дул сильный ветер-южак. Мелентий попробовал разубедить хозяина, объясняя, что с парусами баржа дойдет быстрее, меньше расходов на продукты, а главное, ускорится оборот товара. Хозяин баржи неуклюжий, толстопузый, мордатый, лысый, с приплюснутым носом, почесав затылок, согласился: «Верно говоришь, черепок у тебя варит. Назначаю старшим в артели». На что Мелеха ответил: «Нехорошо это будет, я на сплаву впервой. В артели есть старшой – другие возмутятся». Хозяин улыбнулся: «Верно и в этот раз говоришь, а потолковать с тобой интересно». На дорогу хозяин запасся рыбой, крупами. Хлеб покупали в прибрежных селах, на остановках. Мужики соорудили на барже две мачты, сшили два полога, натянули. По ветру баржа пошла ходко. Артельщики повеселели, а то уже плечи порастирали. Днем хозяин выдал стенку, пестрядиные штаны, белые рубахи, новые лапти. Решили переодеться вечером, помывшись в Волге. Вода на отмелях прогрелась, дымился костер, булькала в казане каша, заправленная сухой рыбой. Артельщики, наплескавшись в воде, стали одеваться. Иван, самый высокий, обутый в один лапоть, возмущался: «Где второй лапоть?» Мужики подшучивали: «Нырнул к царю водяному, поплыл к астраханским девкам». После купания и отдыха ложки бойко стучали о казанок. Смакуя, вытаскивали разварившуюся рыбу. Иван почерпнул со дна, попалась здоровенная рыбеха. Когда вытащил, оказался лапоть. Артельщики очумело переглянулись и загоготали. Новенький лыковый лапоть вывалился из казана. Осип, матерясь, бросил ложку и побежал в сторону, икая. Иван обрадовался, заорал: «Нашлась потеря!»
Пошел июньский проливной дождь с громом и молниями. Воды в Волге прибавилась, течение усилилось, пришлось баржу затянуть в затон. Артельщики расположились на барже под навесом. Вечером скинулись, сбегали в село, купили четверть водки. Почаевничали, повспоминали своих женушек и молодаек, порассказывали бывальщины. Ходившие не раз по Волге артельщики поведали разные случаи: то, как баржу сорвало, то, как артель разбежалась, заснули разморенные. Осип проснулся позже всех, сильно хотелось на двор. Соскочил, что-то сильно дернуло вниз. Лапоть болтался, привязанный за головку. Осип торопливо стал развязывать оборку. Не получилось. Мужики лежали и хохотали. Предлагали: «Оторви и выбрось вместе с лаптем, он тут тебе не нужен, оставь на память самарским девчатам». Мелентий припугнул мужиков: «Вы что, дурни, натворили, хотите, чтобы застой крови получился, чтобы мужик жизни лишился, а ну-ка помогите отвязать». Кто-то посоветовал намочить водой. Лыко распухло, боль стала сильнее. Осип завопил, лыко заскользило, удалось развязать.