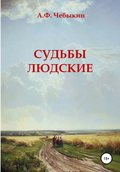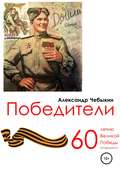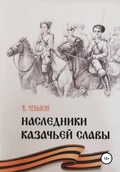Александр Федорович Чебыкин
Русь моя неоглядная
Дядя Митя (быль)
Солнце палило нещадно. Бабы и девчата ворошили сено в валках. Тучи бабочек и мошек вылетели из-под граблей. Пахло мятой, душицей тысячелистником. Мужики деревянными вилами сваливали его в огромные копны. Под валками, прячась от раскаленного солнца, копошились жуки, козявки, личинки. Следом за мужиками над лугом носились стаи разноперых пичужек. В основном это была молодь, встающая на крыло. Молодые коршуны, ястребки группками сидели на высоком кустарнике, одновременно взлетали и цапали зазеленевшихся птах и, пролетая над головами, садились в кустарник за рекой. Над рекой раздавался девичий хохот и птичий гомон. Девчата то и дело бегали к речке и с разбегу прыгали в небольшой омут. На шустрой речушке Ольховке, заросшей ивняком, ольхой, калиной и смородиной, только в воде была прохлада.
Дядя Митя – высокий семидесятилетний мужик с сивой бородой клином, с поблекшими голубыми глазами, – втыкал огромные трехрогие деревянные вилы в копну и поднимал над головой. Охал и медленно опускал на стог, закрывая сверху бабу Пелагею. Та беззлобно кричала: «Ты что, дед, очумел, целую копну на вилы хватаешь. Смотри, гусеница вылезет. Бери по половине, а то я граблями не ухвачу». Митрич серьезно отвечал: «Видишь за Поломкой, над Кадилово, тучи топорщатся кверху и молнии полыхают, через час, другой и к нам гроза придет. Если не управимся, сено погубим». Молодые парни, таскавшие копны, взмолились: «Дядя Митя, давайте передохнем, утомились». Побросав носилки, побежали к речке, к омуту, откуда слышалось девичье верещанье. Девчата завизжали, повыскакивали из воды в мокрых ситцевых платьях, которые прилипли к телу. Ломали ивовые прутья и стегали парней, приговаривая: «Вот вам, охальники, вот». Уселись под стогом сена, который громоздился над лугом, оставалось завершить его. Бабы повытаскивали из ручья крынки с топленым молоком, на холстинки выложили молодое луковое перо, вареные яйца. Мужики пооткрывали берестяные туески с хмелевой брагой, рехая, отпивали пенное жито. Тут были все свои: дальняя и ближняя родня, кумовья и кумушки, сватовья и сватьи. Племянники Митрия: Ванька Спирихин – долговязый мужик с невыспавшимися глазами, Ванька Федюнин – тощий парень с тоскливой физиономией – подсмеивались над дядей Митей, а звеньевой Васька Макарихин подначивал им: «Дядя Митя, а дядя Митя, что же это у тебя коленки голые? Видно, к молодушке подлаживался, от натуги и полопались, или на четвереньках, вместо петуха, за курицами гонялся». Васька Макарихин добавил: «Это у него от злости на Советскую власть коленки заострились». Дядя Митя не выдержал, соскочил, захлопал себя по коленкам и ягодицам, матернулся и скороговоркой выпалил: «Раньше я в суконных штанах ходил и, между прочим, без заплат, а сейчас в холщевых с заплатами и не только коленки голые, но и задница сверкает – вот вам колхозы. Вот вам и Советская власть».
Васька Макарихин стучал кнутовищем по сапогам, выкрикивая: «Но-но, ты мне осторожней на поворотах, а не то быстро на Соловки загремишь». Дядя Митя огрызался: «Какие уж там Соловки, хуже не будет. Все запасы сносил, целыми днями со своей бабой в поле, огород под окном зарос, стыд один». Вечером у звонка на бревнах, дымя цигарками, мужики бурно обсуждали упреки дяди Мити. Ванька Спирихин егозился больше всех: «Контра он, к ногтю его». Было решено написать на него «куда следует», чтобы другим неповадно было. Нашли листики из школьной тетрадки, слюнявя химический карандаш, описали все подробно.
Все трое подписались: два племянника и крестник. Рано утром Васька Макарихин верхом на лошади отправился в село Григорьевское. После обеда с Васькой приехали на телеге милиционер и депутат Сельского Совета. Мите дали два часа на сборы, усадили в телегу. Митиха, не помня себя, бежала вслед за телегой, которая увозила родненького. Бежала, падала и снова бежала, пока силы не оставили ее. Рядом с телегой трусил приемный сын Митенька. Крупные слезины одна за другой опережая друг друга, катились по исхудалым щекам деда Мити, губы тряслись, и он ничего не мог сказать, только мычал. Наконец, совладел с собой и проговорил: «Сыночек, прощай береги мать, завтра принеси в село полушубок, шапку и подшитые валенки, видно надолго меня забирают, наверное, более не увидимся, старый я стал, прости меня, если чем обиден» Почему так, почему мы ожесточились, почему стали доносчиками? Ради чего готовы были упрятать своих родных и близких? Ответа, наверное, и сейчас не даст никто. Прошли годы, а от дяди Мити нет весточки. Ни слуху, ни духу, как в воду канул. В деревне говорили, сгинул дядя Митя.
Со временем уходит память о наших дедах и прадедах.
Черепанов Лог
В деревне он появился неожиданно, впрягшись в маленькую тележку, нагруженную гончарным кругом, инструмент домашним скарбом, глиняными корчагами, кувшинами, кринками, кружками, тащил ее по улице. Седые волосы, подстриженные под кружок, слиплись, пот заливал глаза и капли стекал с крупного носа, ноги дрожали от усталости, холщовая рубаха прилипла к спине. Мужик остановился посреди деревни, к возку сбежались бабы. Молодухи пробовали разговорить молчаливого бородача, но он только брал в руки корчажку или латочису, стучал по ней ногтем и, приближая к покупательницам, давал послушать и насладиться звонким, веселым звуком называл цену. После обеда ходил по косогорам, искал работ глину. На горе в лесу нашел мягкую, тягучую, но было много примеси меди, а на «Нижней Гари» были прослойки серяка. Прошла неделя. Мужики приглашали переночевать в дом, но он отказывался. Стянув оглобли телеги, поднял их вверх, посредине упер жердью, набросил полог, и шалаш готов. В баню ходил с удовольствием, любил попариться. Вечерами на костерке варил похлебку. Продавал посуду и за деньги и менял на продукты: молоко, сметану, картошку, капусту, морковь, репу. Через неделю за деревней, у ручья, впадающего в Ольховку, на склоне оврага, у оползня, нашел ту самую податливую, маслянистую, липучую красную глину. В первую очередь срубил в паз баньку, затем невеликую избушку. Соорудил навес и покрыл соломой. У ручья сбил печь для обжига и начал работать. Никто не знал, откуда он родом, с какой стороны пришел, даже имени его не знали. Прозвали «Черепан», может, потому, что первые дни печь плохо обжигала и гора разбитых черепков лежала на взгорке. Бабы просили не бить неудавшуюся посуду, а отдавать им – в хозяйстве пригодится, на что он отвечал: «Не хочу своего позора в потомках». Шли разговоры, что он участвовал в Мотовилихинском восстании в 1905 году и оборонял «Вышку». Мужики видели в бане исполосованную нагайками спину. Приезжал волостной писарь узнать, кто он и откуда, говорил, что у него «волчий билет». По такой бумаге он не мог нигде устроиться на работу, кроме занятий сельским хозяйством. Дело у Черепана наладилось, по воскресеньям он таскал свою телегу с посудой на ярмарки или дальних деревень и заказывали ему поделки. Время шло. Черепан мало общался с деревенскими, жил одиноко. Ребят привечал, когда они прибегали к нему поиграть черепками. Черепан даже дарил им глиняные свистульки, раскрашенных голубей и снегирей. Пришла Февральская революция, за ней и Октябрьская. Деревенские видели, как к Черепану приходили нездешние мужики. Говорили, пермские. Зачем навещали, никто не знал, но дело свое Черепан не бросал. Печь для обжига дымилась каждый день.
Начался 1918 год. После Пермской катастрофы колчаковцы заполнили весь край, бесчинствовали. Расстреливали и пороли виноватых и безвинных. Особо зверствовали при отступлении. В одну из ночей отряд беляков, сотни полторы, прискакал в деревню. Остановились у Прони. На другую ночь отряд покидал деревню. Или по науськиванию Прони, или по доносу три казака подъехали к хутору Черепапа, постреляли из винтовок по окнам и запалили соломенную крышу, двор, баню, домик. Пламя охватило мгновенно и огромным огненным языком взмыло вверх. Черепан проснулся от выстрелов и треска горящего подворья. Выскочил в одном нижнем белье. Забежал во двор, вытащил гончарный круг, бросился под полыхающий навес за тележкой, но крыша рухнула. Черепан, раздвигая горящие жерди и солому, выбрался из огня. Одежда горела, и он факелом побежал к ручью, но не добежал – упал под ивой. В деревне увидели зарево, ударили в набат, несколько человек спешили к хутору. Когда добрались, тушить уже было нечего. Среди догоравших головешек одиноко стояла задымленная печь. Обгоревшего Черепана нашли под ивой у ручья. Стали снимать остатки пригоревшей нижней рубашки. Черепан еде еле проговорил: «Не надо, больно сильно, все тело жгет. Мелентием меня звали, помяните, в Пермь дочери Устинье передайте…». И замолк. Хоронить было некому. В деревне свирепствовал тиф. На гроб досок не нашлось – все сгорело. Бабка Матрена Осиха и Гришка Кривой притащили столешницу и положили на нее Мелентия. Обмыли. Одели в чистые подштанники и нательную рубаху. Прочитали наспех Канун, я опустили в яму под сосной, из которой Черепан брал глину. Сверху накрыли плетеным коробом и кое-как засыпали землей. Могила быстро заросла березняком. Овраг с тех пор называют Черепанов Лог. Добрые дела человека не забываются – остаются в памяти людской.
Одина
Бабушка моя по маме, Татьяна Торопица, снимала нижний этаж одного из домов Гриши Кашина, где день и ночь варилась брага, настаивалась и продавалась. Татьяна Терентьевна женщина в годах, широкобедрая, круглолицая, с черемными волосами, маслянистыми с поволокой глазами, белозубой улыбкой – рассаживала мужиков за длинным столом, предлагая хмелевую парную брагу: литровую глиняную кружку – за пятак, пол-литровую – за три копейки. Меж рядов бегала младшая дочь Татьяна и просила у мужиков копейку на конфеты и печенье. Если не давали, могла плюнуть в бороду и убежать. Из рода в род первенца-мальца называли Терентием, а одну из дочерей – Татьяной.
Татьяна Терентьевна Торопица имела прозвище «Табора». «Табора» – это за то, что в нижнем этаже день и ночь толпились кучи мужиков, чтобы испить отменную Татьянину бражку. У Татьяны каждый год рождалось по дитю и все от разных мужиков, особо от тех, которые побойчей, половчей и с достатком в кармане. Некоторые гостевали по неделе. Татьяна хвасталась: «Я – ермаковская казачка». По преданию, передаваемому из поколения в поколение, в церковных книгах села Ильинского, резиденции приказчика Строгановых, было записано: десятник атамана Ермака казак Терентий Торопица венчался с девицей Татьяной.
Из восемнадцати детей встали на ноги Парасковья, Семион, Феклинья, Арина, Аксинья, Татьяна. Хоть и гульная была, но золотые червонцы Николаевской чеканки откладывала для покупки своего дома. Кроме младшей дочери Татьяны, детей с ней не было – забирали или родня, или бездетные. Она охотно расставалась, зная, что народит новых.
Орину отдали на реку Паю, где и вышла замуж за Григория. Воспитывалась Орина в набожной семье, где без молитвы ни шагу. Григорий с братьями не заладил и в годы НЭПа решил отделяться. Недалеко от речки на пригорке срубил пятистенную избу. Мужик был хозяйственный и силой был не обделен. Года через три усадьба виднелась издали свежесрубленными строениями. Григорий летом – на пашне, а зимой – в извоз. Всю зиму перевозил в городе грузы. Лошадь попалась породистая – ломовая. Зарабатывал хорошо. Жену Орину берег, тяжелю работу делать не разрешал. Орина каждый год рожала детей, но они умирали малыми. По хозяйству управлялись две бездомные нищенки, обе слабоумные, но крепкие и здоровые. Обе были рады, что у них есть дом. В доме они чувствовали себя не работницами, а хозяйками. Покрикивали друг на друга, если что не ладилось. Орина в хозяйство не вмешивалась, больше молилась, чтобы Бог дал дитя-наследника. Григорий привез из города няню, старую фельдшерицу, дочь Анну удалось выходить. Семья на хуторе жила замкнуто, с соседними деревнями не общались, поэтому прозвали их усадьбу не хутор а «Одина». Началась коллективизация. Анне шел пятый год. Приехали уполномоченные и предложили вступить в колхоз, у Григория начались бессонные ночи, страдал: «Все отдать? Столько трудов вложил». Хозяйство свое вел на научной основе – была своя молотилка, маслобойка, кузня, лошадь, две коровы десяток овец, куры, гуси.
Через месяц принесли огромный налог. Григорий, что можно было продать, продал: гусей, корову, подтелка, зерно добавил скопленные деньги на покупку дома родителям, но этих денег не хватило. Через полгода принесли новый налог, плюс недоимки за старый, Григорию платить было нечем. Молотилку и маслобойку никто не покупал, а с коровой и лошадью расставаться не хотелось.
Весной приехала комиссия, все описала за неуплату налога, кроме дома. Подогнали подводы, стали грузить. Очумевший Григорий бегал от подводы к подводе, не давал грузить. Впервые и жизни матерился, костерил всех подряд. Григория связали вожжами по рукам и ногам и увезли. Забрали корову, лошадь, загрузили подводы зерном, имуществом, даже часы с боем прихватили. Орина больше не видела Григория, куда увезли из сельсовета, никто не говорил.
Хозяйство было разорено. Убогие женщины-работницы и няня ушли. Орина то молилась, то плакала, люди говорили, что помешалась. Приехала сестра Феклинья из города и забрала Оринину дочь Анюту. Орина подалась в монастырь, но монастырь скоро закрыли. Орина ходила по деревням, молилась, но и за это ее стали преследовать. Обессилела. Заболела. В небольшой деревушке приютила ее одинокая старушка. Орина немного оклемалась, пошла работать на железную дорогу.
Через год старушка, у которой она жила, скончалась, перед смертью переписала дом на Орину. Орина забрала дочь к себе. После войны Анюта закончила семь классов и курсы бухгалтеров и пошла работать в колхоз. Орина с дочерью решили попроведать свою усадьбу. Все было растащено, постройки разломаны. Где когда-то был дом, перед окнами росли три березки и кусты калины. Анна вспомнила эти березы и кусты калины, в которых она пряталась и ела кислые-прекислые ягоды. Кругом было запустенье. Вся усадьба заросла молодым осинником.
На карте района было отмечено – хутор «Одина», которого уже не было двадцать лет.
Прошли годы, не стало Орины, но у Анны осталась тоска по детству, память по своему дому, по веселому месту «Одина».
Переполох
Шли пятидесятые годы. Маленков снял налоги с крестьянских хозяйств. Деревенские радовались этому больше, чем Победе. Наконец, можно было вздохнуть. Колхозники начали справлять свадьбы. Пошли байки: у Татьяны свадьба, Федор дочь выдает за тракториста из соседней деревни. Гуляли три дня. На четвертый дальняя родня разъехалась, а ближняя осталась. Похмелье, тяжесть во всем теле, Татьяна – хозяйка – стала сливать гущу из корчаг, бидонов, кувшинов. Все остатки пива и браги до кучи. Набралась трехведерная кадушка. Вылили туда остатки тройного одеколона, бутылку денатурата, который хранился для пользы». Часа через два смесь забурлила, запенилась. Хозяйка попробовала пальцем, сказала: «Можно пить, хорошая бражка». Все черпали кружками, морщились, но пили, заедая корками от рыбных пирогов. К вечеру, изрядно захмелев, начали поплясывать. Федор снял заслонку с устья печи, достал напильник «стал наигрывать: туны-таны-тан. Пляска завертелась.
Закрыли окна тряпками, чтобы с улицы не подсматривали. Чем больше пили эту бормотуху, тем шибче скакали. Мужики поснимали штаны и рубахи остались в одних подштанниках. Где-то в средине ночи попадали на пол, кто где приткнулся, там и уснул. Иван-свояк проснулся от сильной боли в голове и жжения в брюхе. Стал шарить вокруг, ища что-нибудь попить, но кроме рук, ног, голов ничего не попадалось. Еле встал на карачки, пополз. Дополз до угла. В углу стояла корчага с забытой опарой на оладьи. Иван наклонил, хотел попить, но ничего не текло. Кое-как засунул голову вовнутрь. Тесто было липкое, но приятное на вкус. Боль в животе стала утихать. Пробовал вытащить голову обратно, не смог. Корчага была крепкая обвитая берестой и залитая варом. Хмельной дух ударил в нос, в глазах потемнело. Иван ухватился руками за край корчаги, но снять не мог. Соскочил, закричал: «Люди добрые, помогите, замуровали». Но звук из корчаги раздавался глухой. Все мертвецки спали после трехдневной пьянки. Иван ощупью пошел вдоль стены, шараборя, наткнулся на занавешенное окно, решив, что это дверь, вместе с рамой вывалился под окно на ульи. Сшиб один улей, другой. Крышки слетели, растревоженные пчелы набросились на Ивана. Иван с диким ревом бросился бежать с корчагой на голове. Падая и поднимаясь, ничего не видя, пополз на четвереньках на звук, издаваемый рельсой. Бригадир собирал колхозников для распределения по работам. Когда Иван подползал к звонку, его заметили бабы. Тесто текло по груди, спине и ногам. Бабы, увидев такое страшилище, закричали: «Оборотень! Оборотень! Оборотень!» – и бросились бежать. Иван услышал крик, стал трезветь. Приподнялся и тут же наскочил на раскачивающийся рельс, подвешенный на суку. Корчага раскололась на части. Яркое солнце ударило в глаза. Иван на какое-то мгновение потерял сознание, ухватился за ствол березы и сполз на землю. Хватая раскрытым ртом воздух, заснул под березой. Бригадир Степан признал в нем кума Ивана. Побежал по деревне звать баб, просил, чтобы прихватами с собой ведра с водой. Давай поливать Ивана. Иван долго чухался, фыркал и матерился. В деревне долго смеялись, вспомнив об Иване-оборотне.
1999, декабрь
Служивые
Деревенька моя рассыпалась. Папа с мамой переехали на станцию в дом, который купили в 50-е годы, когда я служил в Совгавани и высылал деньги по аттестату. Сначала в доме жила старшая сестра, позже рядышком на ограде срубили свой. Дом большой – на шесть окон, но старый-престарый. Пол на сваях, нижние бревна сруба сгнили, дом осел и окна оказались на четверть от пола.
Сын едет в отпуск! Это у мамы самый главный праздник, выше Рождества, Пасхи и октябрьских торжеств. Пыхтит в кувшинах брага, варится пиво. Пиво мама делала отменное, на своем хмеле, черное-пречерное, душистое, мягкое, нежное. Собиралась вся родня, знакомые и нужные люди. Я не любил эти гостеванья, а мама на это судачила: «Раз в год видимся, нам радость и людям охота на тебя посмотреть». Собираются к обеду, рыбный пирог дымится на столе. Я покупаю бутылок десять водки. Мужики пьют ее без охотки, сетуют: «Шура, не угощай ты нас этой горечью, сургучом от нее отдает. Татьяна, налей-ка нам уральского пивка!» Мама наливает в большую глиняную кружку искрящееся пенистое пиво. Пахнет медуницей и душицей. Мужики сдувают пену, жмурятся от удовольствия, отпивают и передают кружку по кругу. Хорошо… К вечеру все хмелеют. Бабы запевают песни, мужики подтягивают, кто в лес, кто из леса. Бабы шумят, чтобы не мешали и не путали песню. Мужики кучкуются на кухне, начинают рассказывать бывальщины и подвиги, которые случились с ними во время действительной службы. Все побывали на Германской и в Гражданской попластались. Дядя Ваня моложе всех, с лысиной ото лба до затылка, высокий, широкоплечий, ловкий, мускулистый. Может хватить шестиметровое бревно и тащить на плече. У него сила по наследству от дедушки Ивана Федосеевича. Дядя хвастается: «Когда был конфликт на КВЖД в двадцать восьмом, мы в штыковую ходили на япошек. Я прокалывал зараз двоих и бросал через себя». Я верю. Дядя сильный и отчаянный, кроме жены бегает еще к двум голубушкам. Своих детей четверо и у каждой по четверне от него. Дядя Ваня просит: «Шура, покомандуй нами. Я все ружейные приемы помню». Деды подхватывают: «А мы что, не служивые? Мы тоже можем». Дядя Ваня вооружается деревянной лопатой для посадки хлеба в печь. Папа ухватом. Сват Терентий-Косач – большой клюкой, крестный Ипат-Кошка – соломенным помелом, которым подметают пол в печи. Кум Семион, папин братан, из сеней притащил грабли. Отделение из пяти стариков выстроилось вдоль стены. Командую: «Становись! Равняйсь! Смирна-а-а! На плечо! К ноге! На ремень!» Тут замешкались. Снова: «К ноге! На руку! – это получается ловко. – Шаг вперед!» Старики подтянулись, напыжились, напряглись, готовые к штыковой атаке. Кричу: «Ложись! По-пластунски, ориентир – береза за окном, на врага вперед!»
Деды попадали, заработали локтями, поползли вперед. Дядя Ваня приподнялся на четвереньки, ему не виден ориентир «Береза». Еще минута и слышен пук о стену: Бом, бом, бом! – а в следующий миг грохот. Дядя вышибает простенок. Короткие бревешки вылетают в палисадник. Деды соскакивают. Дядя Ваня охает, хватается за голову. У всех синяки – у кого на лбу, у кого под глазом. У дяди Вани вскакивает около темечка огромная шишка, величиной с яйцо. Бабы заливаются смехом. Слышатся возгласы: «Аники воины!». Мама тащит огромную медную денежку, прикладывает к синякам и шишкам. Синяки исчезают, шишки опадают. У дяди Вани без изменений. Мужики побежали во двор, нашли бревна. Пилят, тешут, строгают. Через два часа простенок восстановлен. Недели три дядя Ваня ходит с рогом. Над ним надсмехаются: «Ну как, Иван, избу не развалил?»