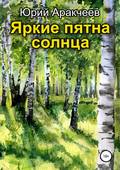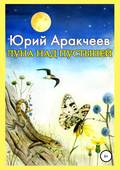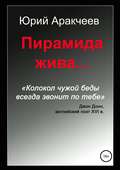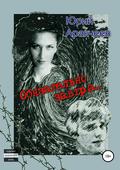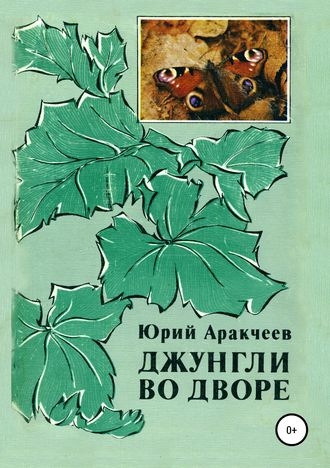
Юрий Сергеевич Аракчеев
Джунгли во дворе
«Королева-самка экстремистов играет в этой истории главную роль. После брачного полета, когда ее оплодотворяет самец своего племени, самка опускается неподалеку от чужого муравейника. Опускается и ждет, чтоб одинокую королеву заметили рабочие муравьи великой державы. Это психологический маневр, «рассчитанный» на то, что врожденное почитание самки заставит противника совершить глупость. И действительно. Встретившись с ее величеством, рабочие муравьи исполняют долг: поднимают самку и бережно несут в покои. Похищаемая не сопротивляется, позволяет посадить себя подле законной матки, а потом взбирается на спину сопернице и, используя преимущество занятой позиции, в удобный момент обезглавливает ее. Дворцовый переворот происходит при полном безучастии масс, за что они понесут наказание.
Воцарившаяся самозванка сразу начинает подрывную работу. Она выводит на свет легионы муравьев своего вида. Мало-помалу иноземцы выживают хозяев, завладевают их муравейником, одерживают полную и, если не считать одного убийства, бескровную победу».
Неужели и это только инстинкт?
«По-видимому, у термитов существует самое точное распределение обязанностей по классам: рабочие никогда не сражаются, а солдаты никогда не работают… Внутри термитского холма, как раз посередине, имеется большое пустое пространство с проходами, ведущими из него в различные стороны: эта площадь, по мнению некоторых ученых, служит форумом для народных собраний, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся общины… Отношение числа солдат к числу работающих равняется приблизительно 1%, так что постоянные армии термитов относительно меньше тех, которые ложатся таким бременем на европейские государства. Другими словами, 99/100 всего населения заняты промышленным трудом и только одна сотая – войною, что, конечно, свидетельствует о высоком уровне термитской цивилизации» (Э. П. Эванс. «Эволюционная этика и психология животных»).
Ну что тут скажешь? Каким же образом сложился этот инстинкт? Сколько миллионов лет потребовалось для этого?
Насекомые – одни из самых древних существ на Земле. Всем известные тараканы, например, сохранились почти такими, какими были 300 миллионов лет назад. 300 миллионов лет назад по Земле тоже бегали тараканы! Как же тверда их генетическая память, если за такое колоссальное время они не претерпели существенных изменений! Ничего себе консерватизм…
Насекомые, особенно, увы, вредные насекомые, – рекордсмены по выживаемости. Это просто какие-то автоматы, словно бы даже и не живые, а механические, настолько они живучи. Где их только нет! И в глубочайших пещерах, и в горах, и в воде, и в воздухе на высотах до нескольких километров.
Небольшой жук-жужелица, например, живет в Гималаях на высоте от 4300 до 5000 метров. Он приспособился к жизни в вечных снегах! И не он один – 25 видов жужелиц обитают в Гималаях, в зоне вечного снега и льда. В абсолютно безводной пустыне Намиб в Южной Африке, где нет никаких растений и никогда не бывает дождя, живут жуки-чернотелки, которые питаются только приносимыми за сотни километров знойным ветром сухими остатками растений. Но ведь для всякой жизни вода совершенно необходима. Откуда же берут ее чернотелки? Они получают ее биохимическим путем. Она образуется при окислении этих самых сухих остатков.
В вечной, абсолютной тьме пещер, там, где никогда, кажется, не может быть никакой жизни, встречаются слепые представители шестиногих, использующие ничтожные остатки пищи, которые каким-то чудом попадают к ним. Первое пещерное насекомое (тоже жук!) описано в 1831 году в Югославии; с тех пор энтомологи начали изучать их и открыли богатую фауну насекомых-троглобионтов, то есть обитателей пещер.
Даже на антарктических островах найдены недавно бескрылые комары дергуны, один из них – родственник нашего мотыля, рубиновые личинки которого хорошо знакомы рыболовам и любителям аквариумных рыб.
Лучшие летуны среди насекомых поднимаются на высоту нескольких сот метров, но можно встретить их и на высоте до нескольких километров. Когда у пчел наступает период любви, крылатая самка вылетает из улья, за ней скопом летят самцы, а самка взлетает все выше и выше (на высоту до полутора километров!), и только самый сильный самец, сумевший догнать ее здесь, удостаивается чести быть «обрученным» с нею. Он умирает в этом благородном экстазе, но обеспечивает будущий улей своим многотысячным крылатым потомством.
Отдельные экземпляры пустынной саранчи поднимались на высоту в шесть тысяч метров, достигая вечных снегов Килиманджаро. Где есть хоть какие-то растения, хоть сухие или полусгнившие остатки их, там обязательно есть и их спутники – насекомые…
«По способности жить на суше в самых разных условиях класс насекомых не имеет себе равных, и именно благодаря тому, что отдельные виды приспособились к жизни в самых разных, иногда невероятных условиях (например, личинки некоторых мух – в горячих источниках или в насыщенных соляных растворах), насекомые в процессе своей бурной эволюции, продолжающейся уже во всяком случае более 200 миллионов лет, дали то исключительное богатство видов, которое обеспечивает современное процветание этой группы членистоногих» – так пишет М. С. Гиляров, один из крупнейших наших ученых-биологов.
Но каково же приблизительное количество насекомых на Земле, то есть количество отдельных особей?
Самыми многочисленными считаются общественные насекомые – муравьи, термиты. Каждая колония содержит от нескольких сот до нескольких миллионов «граждан». Однако периодически под влиянием тех или иных условий возникают вспышки необычайно массового размножения тех насекомых, которые, как правило, гораздо менее многочисленны, например бабочек. Но конечно, наиболее эффектны примеры с колоссальными, подобными тучам, стаями саранчи, в буквальном смысле слова затмевающими солнце. «Масса саранчи может покрыть сразу 100 квадратных километров, а вес ее достигает 70 000 тонн», – утверждает Реми Шовен. Но еще более поразительные примеры приводит И. Халифман в предисловии к книге Шовена «Мир насекомых»: «На крохотном по сравнению с поверхностью всей суши острове Кипр за одно только лето собрано и уничтожено свыше полутора миллиардов кубышек саранчи, и в каждой кубышке, как известно, содержится довольно много яичек. Два года спустя на том же острове было, по определению специалистов, отложено свыше 5 миллиардов кубышек… Описаны отдельные стаи саранчи, насчитывавшие не менее 40 миллиардов особей. Одна зарегистрированная учеными стая занимала почти 6 тысяч квадратных километров и весила, по заслуживающим полного доверия подсчетам, столько же, сколько весит все количество меди, свинца и цинка, добытое человечеством за целое столетие».
Однако же сколько их, насекомых, всего?
Этим вопросом вплотную занялся английский профессор К. Б. Вильяме, энтомолог первой в мире опытной сельскохозяйственной станции. В результате долгих и кропотливых исследований он пришел к заключению, что даже наименьшее возможное количество насекомых на Земле должно составить число с восемнадцатью нулями, то есть миллиард миллиардов… А это значит, что на каждого человека, живущего на планете Земля, приходится не меньше 250 миллионов всевозможных насекомых…
Что же помогает им выжить вопреки всевозможным труднейшим условиям? Как удается сохранить это колоссальное разнообразие и огромную численность?
Можно очень долго говорить на тему о необычайных способностях насекомых, удивительных данных, которыми наградила их мать-природа. Жесткий панцирь – прямо танковая броня – большинства жуков (эта «броня», научное название которой «кутикула», имеет, кстати, очень сложное строение – она состоит из трех слоев, каждый из которых несет свою функцию!). Необычайная сила мышц (с детства знаем мы классический пример: муравей, волочащий гигантское бревно-соломинку; не менее выразительный пример – майский жук, который, несмотря на сравнительно малые свои размеры, настолько силен, что его иной раз невозможно удержать в пальцах). Быстрота движений, способность прыгать, плавать, летать…
Вот, кстати, о полетах. Пчела летит со скоростью до 20 километров в час, бабочка-бражник – до шестидесяти! Если измерить скорость не абсолютную, а относительную, то есть количество собственных длин, пролетаемых в единицу времени, то получаются фантастические цифры. Если современный самолет, летящий со скоростью 900 километров в час, пролетает в минуту расстояние, равное приблизительно 1500 собственных длин, то, например, слепень – в 30 с лишним раз больше – 50 тысяч собственных длин! А бражник – в 700–800 раз больше, около миллиона собственных длин!
Ведь это только представить себе, что, став в силу каких-либо причин большими, насекомые сохранили бы свои феноменальные двигательные, прыгательные, летательные и хватательные способности! Кстати, не исключена возможность, что есть где-нибудь в глубинах Вселенной планеты, на которых жизнь воплотилась главным образом в форме крупных насекомых. Ведь и на нашей Земле стрекозы, например, достигали в каменноугольный период 60 сантиметров в размахе крыльев…
Ко всему прочему у шестиногих очень велик КПД использования питательных веществ. Это удивительно совершенные, удивительно экономичные аппараты!

Поразительный мир… Но может быть, самое поразительное – это способность к самовоспроизведению, прямо-таки фантастическая плодовитость насекомых. Самка колорадского жука, привезенного к нам из Америки и ставшего у нас серьезным вредителем картофеля, откладывает около семисот яиц. Через полтора-два месяца личинки успевают вывестись, пройти весь цикл развития, стать половозрелыми жуками и в свою очередь отложить яички. Каждая самка – около семисот… За лето, таким образом, потомство одной только самки может достигнуть восьмидесяти миллионов. Что было бы, если бы у колорадского жука не было врагов?
Самка муравьев, как уже говорилось, откладывает ежедневно несколько сот яиц, а самка термитов – несколько тысяч. В день. Без отдыха. И в течение нескольких (иногда нескольких десятков) лет. Никакой автомат не в силах состязаться с такой «мамашей». Многомиллионную армию поставляет своему «государству» эта родильная машина…
В отличие от других животных у насекомых очень развита полиэмбриония. Это когда из одного яйца может родиться до двух тысяч индивидов! Такие «многодетные» яйца закладывают обычно насекомые-паразиты внутрь своих хозяев. Например, из гусеницы, в которую оса-наездник вложила с десяток яиц, может вылететь до трех тысяч взрослых ос…
Очень любопытный пример – тли, эти знакомые всем «травяные вши» (хотя по родственным связям они ближе к упомянутым уже цикадкам-пенницам). В средней полосе наиболее часто встречаются тли двух видов – зеленые и темные, почти черные. У этих беспомощных, малоподвижных, мягких, вялых созданий тьма врагов. Это и взрослые божьи коровки, истребляющие их в колоссальном количестве (до 100 в день каждая), и личинки божьих коровок, и златоглазки, и микроскопический грибок. Все они расправляются с тлями без всякой помехи, ибо тлям нечем защищаться – нет у них ни острых челюстей, ни ядовитого жала, ни быстрых ног, ни крыльев, ни жесткого панциря… Есть у них, правда, друзья – муравьи, но они все же очень мало помогают им. Как же выжить тлям в этом суровом мире?
А вот как. Едва только крошечное, беспомощное создание появится на свет божий, как уже через одну-две недели оно начинает без устали плодить себе подобных, причем самочке даже встречаться с самцом не нужно: любовь у тлей бывает один раз в несколько поколений… Плодовитость тли просто немыслимая. Ученые высчитали, что потомство одной тли через десять поколений имело бы такую массу, которая равнялась бы весу пяти миллиардов взрослых людей, а через год тли покрыли бы Землю слоем толщиной в метр. И все это только от одной маленькой беспомощной самочки. Правда, при условии, если бы все до одной особи выживали и всем хватало бы пищи… Какая же сила жизни заключена в этом крошечном вялом тельце!
И фантастическая эта сила для природы – обычное дело. О мухах мы уже говорили, но приведем конкретную цифру. Если бы одна только домашняя муха оказалась в столь благоприятных условиях, что ее потомству ничто бы не мешало размножаться и хватало бы еды, то через пять месяцев весь земной шар был бы покрыт слоем мух толщиной в 14 метров…
К счастью, не только тли, не только мухи обладают столь феноменальными способностями. Не менее щедрой оказалась природа и к их врагам.
Да, это удивительный мир. И при всем том множестве интересных и часто поучительных аналогий, о которых мы уже говорили, мир этот все же совсем другой, нежели наш, человеческий. Вот что пишет по этому поводу Реми Шовен: «…уже сейчас нужно признать существование целого ряда лишь частично соприкасающихся миров, миров, в которых уровни радиации, температуры, влажности иные, совсем не те, что известны или привычны нам. Даже среди насекомых каждая особь нередко живет в особом мире, почти не связанном с миром ее соседа. А если принять во внимание огромное разнообразие органов чувств насекомых и их несходство с нашими, станет еще понятнее, как в действительности далеко от нас насекомое, живущее бок о бок с нами: оно видит другие цвета, слышит другие звуки, ощущает другую температуру, воспринимая все это иными путями и в поведении своем руководствуясь какими-то более надежными стимулами, которых мы еще не различаем».
…В таких глубинах я оказался, с такими необычайными существами довелось мне столкнуться после того исторического дня, когда я впервые вышел во двор, сжимая в руках фотоаппарат, снабженный насадочными кольцами.
Никакой жизни, конечно, не хватит, чтобы досконально его изучить. Но где уж там досконально. Хотя бы чуть-чуть прикоснуться, проникнуть…
Таинственные и прекрасные
Траурная мантия. Царский плащ.
Ахилл. Гектор. Менелай. Улисс,
Аполлон. Артемида. Геба.
Селена. Аглая. Галатея. Ио. Ме-гера.
Гипермнестра. Пандора. Икар.
Поликсена. Мнемозина. Медуза.
Цыганка. Монашенка. Стрельчатка-зайчик. Улитка. Ослик.
Медведица бурая. Медведица-нищенка. Медведица-хозяйка. Медведица-госпожа.
Огненный червонец. Мертвая голова. Зорька Аврора.
Пяденица великолепная. Пяденица толстобедрая. Совка-старушка.
Орденская лента. Крашеная дама. Ледяная птица.
Красавица. Монарх. Адмирал. Тамара.
Лесной сатир. Зелено-желтое облако. Лунка серебристая. Парусник, Орион…
Все это – названия бабочек. Создавая животный мир и распределяя краски, природа в какой-то счастливый миг не сдержалась. Может быть, особенно хорошее настроение у нее было? Всеми цветами и оттенками радуги пестрят эти удивительные создания, каких прекрасных, а то и загадочных рисунков на крыльях их только нет! И вот что поразительно: зачем? Для чего бабочкам такой необычайно красивый наряд?..
В древнегреческой мифологии олицетворением бессмертной человеческой души была Психея – девушка с крыльями бабочки. Превращение гусеницы в неподвижную, «мертвую» куколку, а затем выход из куколки прекрасной порхающей бабочки сравнивались со смертью человека, а затем вылетом из тела бессмертной души. Бог сна Гипнос также изображался с крыльями бабочки на голове, так как сон считался периодическим освобождением души от земных уз…
Были, да и сейчас есть люди, всю свою жизнь посвятившие коллекционированию этих прекрасных созданий. Одно время, когда хорошие коллекции были редкостью, они стоили огромных денег, считались национальным достоянием. Короли с удовольствием принимали в подарок бабочек редких расцветок; бывая друг у друга в гостях, они считали своим долгом полюбоваться энтомологическими коллекциями хозяина. Экземпляр южноамериканской бабочки морфо ценился когда-то особенно высоко; ювелиры украшали ее небесно-синими, отливающими перламутром крыльями всевозможные дорогие изделия – колье, медальоны, пепельницы, чаши, подносы, шкатулки, туалетные приборы из серебра. Естественно, что женщины тоже не упускали счастливую возможность – они пристраивали крылья бабочек в своих прическах, прикалывали их к платьям.
Целые южноамериканские деревни жили тем, что ловили и продавали европейским собирателям и ювелирам особенно красивых бабочек. Ради поимки какого-нибудь редкого вида организовывались экспедиции. По свидетельству русского писателя Н. Ф. Золотницкого, огромная бабочка Антимах, скорее похожая на летучую мышь, чем на насекомое, обошлась Кенсингтонскому музею в Англии в 5 тысяч рублей в переводе на тогдашние русские деньги. Чтобы поймать ее, в Африку был послан энтомолог. С трудом отыскав эту редкую бабочку, он вынужден был семь дней и семь ночей просидеть под деревом, на вершине которого крылатая красавица вздумала укрыться. Лишь сильный тропический ливень заставил ее спуститься пониже, в результате чего она и угодила в сачок терпеливого охотника. Желая иметь в своей коллекции крупную сине-зеленую бабочку, названную потом в честь королевы Александрой, известный богач Ротшильд (который сам был энтомологом-любителем) послал на Новую Гвинею опытного ловца бабочек. Над поимкой редкостного создания бывалый охотник промучился несколько недель. Можно себе представить, во сколько обошлась Ротшильду эта бабочка! Современные коллекционеры тоже не жалеют денег: некоторые редкие экземпляры бабочек стоят дороже, чем цветной телевизор. Хотя ни с чем не сравнить, конечно, другую стоимость красавицы, не материальную.
Не так давно, в самом начале 70-х годов, газета «Комсомольская правда» опубликовала заметку о том, что на Дальнем Востоке, в Приморье, среди скал, отважный советский специалист-энтомолог А. И. Куренцов с риском для жизни поймал два экземпляра – самца и самку – редчайшей серебристо-зеленой перламутровки. За что удостоился поздравления своих бразильских коллег, хотя Бразилия, как известно, обладает самой богатой фауной бабочек в мире. Центральная наша газета не пожалела места для такой заметки, и это, по-моему, великолепно. Я даже подумал: а не возрождение ли это законного интереса к крылатым созданиям? Ведь хороших книг о насекомых у нас мало, очень мало, а достаточно полного атласа бабочек и гусениц вообще нет…
Правда, в Москве, например, есть Зоомузей Московского государственного университета на улице Герцена и его выставленная для всеобщего обозрения коллекция насекомых. Тропические бабочки так красивы, так огромны, что кажутся ненастоящими. Невозможно поверить, что столь экзотические, столь изысканно и ярко окрашенные существа могут быть живы, могут где-то летать, садиться на цветы… Ведь самая крупная в мире бабочка – бразильская совка Агриппа – в несколько раз больше, чем самая маленькая птица колибри; в размахе крыльев она больше даже, чем воробей, синица, скворец. До 30 сантиметров – вот каким бывает размах ее крыльев! А роскошные, отливающие перламутром морфиды? Неужели в результате прозаического естественного отбора могла родиться такая небесная красота? Именно небесная, потому что у Менелая или Киприды, например, крылья цвета полуденного чистого неба с солнечным каким-то отливом, а у очаровательной Евгении, названной так по имени французской императрицы, страстной любительницы бабочек, – опалового, жемчужного, с ускользающими легкими переливами розового и голубого – утренняя туманная дымка при восходе солнца.
О Евгении интересно пишет известный французский энтомолог-коллекционер Ле Мульт. Эта бабочка, представительница семейства морфид, считалась настолько редкой, что некоторые энтомологи вообще сомневались в существовании ее как вида. И вот однажды ранним утром, на заре, Ле Мульт отправился в джунгли (он жил тогда в Гвинее) и в сумеречном свете утра увидел промелькнувшую тень какой-то морфиды. Он удивился, потому что ослепительные эти бабочки летали обычно в разгаре дня. Ему удалось поймать загадочную утреннюю бабочку. Ею оказалась редчайшая Евгения. Так выяснилось, что опаловые бабочки летают только на утренних зорях, когда другие дневные бабочки еще спят, потому и не попадались они энтомологам. Вот, значит, почему крылья у них такого необычайного, ускользающего розовато-голубовато-опалового цвета – цвета робких утренних зорь…
«Крылья бабочки Циприсморфо, – пишет Н. Ф. Золотницкий, – отливают чудным синим цветом, так что, освещаемая солнцем, она блестит, как сапфир. Летя на грандиозной высоте, она так сильно сверкает, что ее видно чуть ли не за версту (теперь считается – за полтора километра). Несколько таких летящих вместе бабочек имеют издали вид полыхающих огоньков и представляют собой необычайное зрелище…»
Но тропики есть тропики. А войдите-ка вы в наш, подмосковный, спокойный, приветливый лес, выйдите на солнечную поляну… Посмотрите, как весело пляшут над цветами белые крупные хлопья капустниц и брюквенниц, мелькают канареечные лимонницы, пестро-коричневые, рябящие на лету крапивницы. И наверное, не раз приковывал к себе ваш взгляд уверенный, стремительный полет многоцветницы (точь-в-точь крапивница, только в полтора раза больше). Если она пролетала близко, вы наверняка слышали трепетание ее мощных, как у маленькой птицы, крыльев. А траурница, или траурная мантия, как ее называли раньше? Каждый видел ее темно-шоколадные, роскошные крылья с яркой светло-желтой каймой и синими точками вдоль каймы. Недаром ее наградили таким названием, есть в этой красивой и сильной бабочке нечто печальное. А знаменитый дневной павлиний глаз, не уступающий по красоте, если как следует приглядеться, многим жителям тропиков?

Многие из моих юношеских воспоминаний связаны с бабочками. Помню, как в поселке Никольское, под Москвой, я впервые принялся собирать коллекцию, расправляя бабочек по способу, о котором прочитал в книжке Аксакова, а однажды на окраине поселка увидел красивого редкого Махаона («Кавалер Махаон» – так назывался он у Аксакова, Кавалер – с большой буквы…). Поймать не сумел, но на всю жизнь запомнил, приняв это за добрый знак. Махаоны ведь редки в наших краях, я во всяком случае с тех пор ни разу ни одного Махаона под Москвой не встречал… Помню, как однажды мой полуторагодовалый брат вдруг стал делать мне какие-то многозначительные, непонятные знаки, указывая пальчиком в сторону сада. Мы с бабушкой заинтересовались поведением малыша, пошли вместе с ним туда, куда он показывал, и что же вы думаете? На уровне его полуторагодовалого роста в темном месте под карнизом веранды сидела ночная бабочка. И какая! Свежий, ничуть не потертый экземпляр медведицы кайя в совершенно невероятном наряде – бархатные, шоколадно-бурые, с белыми жилками верхние крылья и ярко-оранжевые, с небесно-голубыми пятнами нижние. Я смотрел и глазам не верил: откуда взялась в наших скромных широтах такая экзотика?
Уезжая из Никольского в конце лета, я нашел на садовой дорожке волосатую темную гусеницу и взял ее с собой. В Москве она тотчас окуклилась, и однажды утром, заглянув в банку, я так и застыл пораженный. Темная, неподвижная, кажущаяся мертвой куколка лопнула, и из нее вылезло нечто пока еще не совсем понятное, но уже прекрасное. Это была одна из самых красивых наших бабочек – адмирал, или Ванесса аталанта по-латыни. Поначалу еще маленькие, младенчески сморщенные крылышки ее стали расправляться, расти, через полчаса в банке сидела уже Ванесса в своем полном великолепии – широко распахнутые черные крылья с ярко-красными перевязями и несколькими снежно-белыми пятнами. Внизу же валялась маленькая и такая никчемная шкурка куколки. Да, можно понять древних греков…
Об окраске бабочек и разнообразии их можно говорить без конца. Нет такой краски, нет такого оттенка, которого мы не встретили бы на крыльях бабочек. И нельзя найти ни одной бабочки, окраска которой была бы некрасивой и дисгармоничной. Чем дольше, чем внимательнее разглядываешь крылья какой-нибудь невзрачной на первый взгляд ночницы, тем больше начинает нравиться ее затейливый, выполненный сплошь да рядом с необычайной изысканностью рисунок. Трудно найти здесь королеву красоты. Конечно, поражают сверкающие тропические морфиды. Но посмотрите, например, на изображения некоторых молей в Атласе Курта Ламперта: хмелевая роскошная моль, моль-пестроножка, моль-красавка, дубовая тощая моль пестрянка, опоясная длинноусая моль… Они прекрасны!

Из школьных учебников известно, что своеобразная окраска нужна бабочкам для того, чтобы в этом жестоком мире выжить. Окраска бывает покровительственная, предостерегающая (или отпугивающая), мимикрирующая. Понятно, что природа в процессе естественного отбора, руководствуясь железными принципами целесообразности, наградила эфемерные, беззащитные создания нарядами, которые нужны им отнюдь не для того, чтобы ублажать наше человеческое чувство прекрасного. Не до жиру – быть бы живу, как говорится. Но…
Зачем, зачем бабочки именно с нашей, человеческой, точки зрения так красивы? Зачем так ошеломляюще прекрасны морфиды и моли? Зачем паруснику Махаону или Подалирию эти длинные косицы-шпоры на концах задних крыльев (у Подалирия они еще и изящно перевитые)? У дальневосточной павлиноглазки Артемиды шпоры достигают настолько непропорциональной длины, что наверняка мешают в полете. Я уже не говорю о некоторых тропических бабочках, чьи шпоры в два раза длиннее самих крыльев! Правда, и здесь нашлось объяснение. Считается, что шпоры отвлекают птиц-охотников от жизненно важных органов бабочки и схватившая за шпоры птица, отрывая эту шпору, остается ни с чем, так как бабочка улетает. Что же, возможно… Приблизительно ту же роль приписывают иногда и ярким глазкам и пятнам на крыльях, например, у Аполлона. Они якобы отвлекают птиц на себя, и птица промахивается, увлекшись пятном и не обращая должного охотничьего внимания на брюшко. Может быть, может быть…
Но вот у многих бабочек как раз брюшко-то и выделяется четко, а у огромного ночного бражника мертвая голова на самой спинке, на самом что ни на есть жизненно важном месте, изображен известный знак – череп и кости. Остается только предположить, что для птиц этот знак столь же выразителен, как и для нас, людей…
Рисунок на обороте крыльев бабочки калиго – портрет глазастой совы. Даже если и это художество – результат естественного отбора, то сколько же миллионов лет понадобилось для доведения рисунка до теперешнего совершенства?
Крыло знаменитой бабочки каллимы воспроизводит увядший лист с такой точностью, что фитопатологи (специалисты по болезням растений) смогли даже установить вид плесени, который на этом «листе» изображен! Самое поразительное здесь то, что для обмана хищников такой виртуозности вовсе не нужно. Недалеко ушедшие в своем эстетическом развитии хищники обманываются гораздо более примитивными способами. Вспомните хотя бы далекие от совершенства имитации – искусственные наживки для рыб, прекрасно, впрочем, исполняющие свою роль. Та же самая неразборчивость установлена учеными и у птиц. «Лучшие имитации, – пишет Реми Шовен, – представляют собой, собственно говоря, сверхуподобления, бесполезные и абсурдные с точки зрения естественного отбора».
Для кого же и для чего в таком случае стараются калиго, каллима и другие? Ко всему прочему «сова» на крыльях калиго «смотрит» только на энтомологов, так как в природе бабочка никогда не сможет сесть таким образом. Вот что пишет по этому поводу Ле Мульт: «Я собственными глазами видел (поэтому и опровергаю легенду), что птицы без малейшего страха нападали на бабочек калиго. Да и как могла бедняжка калиго так поворачиваться, чтобы изображение совиной головы на изнанке ее крылышек могло производить на птиц устрашающее впечатление?»