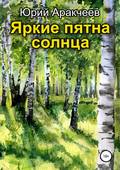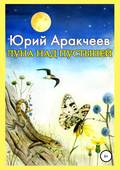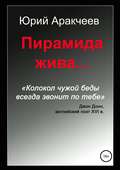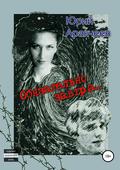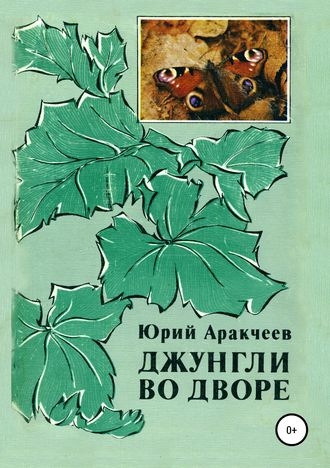
Юрий Сергеевич Аракчеев
Джунгли во дворе
С апреля по октябрь летает в средней полосе бабочка из рода углокрыльниц, которая называется «С-белое». Называется она так потому, что на оборотной стороне ее крыльев на общем темном, почти черном фоне совершенно четко, как будто белилами, выведена аккуратная латинская буква «С». А есть бабочка из рода ванесс «Эль-белое». Именно эта буква, тоже латинская, нарисована белилами на ее крыльях. Есть волнянка «В-белое», металловидка «золотое В», «серебряное В», «золотое С». На оборотной стороне крыльев адмирала можно, если постараться, прочитать цифру 687. Не будем слишком увлекаться, но все же вспомним, что именно три такие карты (шестерка, восьмерка, семерка) – предмет мечтаний завзятого картежника, ибо в сумме они составляют желанное «очко» – двадцать один… А несколько небольших бабочек из семейства совок буквально размечены буквами греческого и латинского алфавитов – це, гамма, эпсилон, пси, двойное о… Есть совка «восклицательная» (восклицательный знак на крыльях), есть совка «запятая». Есть шелкопряд «тау» … Как тут не подумать, что кто-то когда-то для чего-то пытался разметить крылатых красавиц, но, едва начав, понял, что дело это слишком уж длительное и трудоемкое!
Видный ученый Курт Ламперт, составитель прекрасного Атласа бабочек и гусениц Европы и отчасти среднеазиатских владений, переведенного на русский язык профессором Холодковским и изданного у нас в 1913 году, утверждал: «Вопрос о законах окраски бабочек принадлежит к числу самых спорных вопросов в энтомологии». В вопросе этом нет полной ясности до сих пор. Как, впрочем, и во многих других.
Ну вот, например, миграции.
Курт Ламперт пишет:
«…Рудов наблюдал во время поездки в Барнгольм (Швеция) перелет капустниц, летевших густым облаком из Швеции через Балтийское море; пароход употребил более двадцати минут, чтобы миновать эту вереницу».
Из книги Н. Ф. Золотницкого:
«В прошлом столетии один пастор оставил описание такого перелета. Капустницы летели в несколько слоев с северо-востока на юго-запад и крутились в воздухе, как снежный буран. Пролёт их продолжался несколько часов».
Отрывок из книги русского писателя В. Набокова, ученого-энтомолога между прочим:
«…движется по синеве длинное облако, состоящее из миллионов белянок, равнодушное к направлению ветра, всегда на одном и том же уровне над землей, мягко и плавно поднимаясь через холмы и опять погружаясь в долины, случайно встречаясь, быть может, с облаком других бабочек, желтых, просачиваясь через него без задержки, не замарав белизны, – и дальше плывя, а к ночи садясь на деревья, которые до утра стоят как осыпанные снегом, – и снова снимаясь, чтобы продолжить путь, – куда? зачем? природой еще не доказано – или уже забыто…

Наша репейница – «крашеная дама» англичан, «красавица» французов, в отличие от родственных ей видов, не зимует в Европе, а рождается в африканской степи; там на заре удачливый путник может услышать, как вся степь, блистая в первых лучах, трещит и хрустит от несчетного количества лопающихся хризалид. Оттуда без промедления она пускается в северный путь, ранней весной достигая берегов Европы, вдруг на день, на два оживляя крымские сады и террасы Ривьеры; не задерживаясь, но всюду оставляя особей на летний развод, поднимается дальше на север и к концу мая, уже одиночками, достигает Шотландии, Гельголанда, наших мест, а там и крайнего севера земли: ее ловили в Исландии! Странным, ни на что не похожим полетом, бледная, едва узнаваемая, обезумелая бабочка, избрав сухую прогалину, «колесит» между лешинских елок, а к концу лета, на чертополохе, на астрах, уже наслаждается жизнью ее прелестное розоватое потомство. Самое трогательное… это то, что в первые холодные дни наблюдается обратное явление, отлив: бабочка стремится на юг, на зимовку, но, разумеется, гибнет, не долетев до тепла».
Известно также, что мертвая голова, а также некоторые другие бражники, например олеандровый, путешествуют с юга на север, пролетая сотни километров без посадки. Описаны случаи залета олеандрового бражника, распространенного в средиземноморских странах, в Ленинград и Эстонию.
Странствуют не только бабочки, но и гусеницы. Известен случай, когда массовая миграция гусениц капустной белянки остановила железнодорожный состав, так как колеса паровоза забуксовали на массе раздавленных тел. Странствуют гусеницы походного шелкопряда, красной орденской ленты. Личинки южноафриканской бабочки Лафигма экземпта – «ратные черви» – в тех случаях, когда встречаются поодиночке, окрашены в зеленый или темно-коричневый цвет. Но вот они собираются в громадные толпы, облачаются в «униформу» – черный бархат – и сомкнутыми стройными рядами движутся по земле, уничтожая живую зелень на своем пути…
Конечно, примеры массовых миграций в основном давние. Сейчас, по-видимому, трудно встретить белые и желтые облака бабочек; нарушена, вероятно, миграция репейниц. Однако и сейчас нередки гибельные для лесов массовые переселения гусениц походного и сибирского шелкопрядов, нашествия «ратного червя»…
Самое же удивительное здесь то, что странствия гусениц, а особенно перелеты бабочек (как и известные всем миграции громадных стай саранчи) не всегда объяснимы. Далеко не всегда они оправданы поисками корма… Впрочем, миграции свойственны не только насекомым, но – птицам, рыбам, млекопитающим, и необычайно интересный вопрос этот до сих пор остается во многом загадочным.
Всем известно, что ночные бабочки ночью летят на свет. Сколько стихотворений написано по этому поводу, сколько рассказов и сказок! Нежное, эфемерное создание, стремящееся издалека к источнику света, летящее напрямик, не разбирая дороги, спешащее, колотящееся в стекло, если оно на пути, и лишь для того, чтобы опалить свои прекрасные крылышки, а то и сгореть совсем… А днем, когда кругом такое богатство света, когда светит солнце – ярчайший источник, скромные ночные бабочки прячутся в какую-нибудь темную щель. Если они так любят свет, что летят к его источнику ночью, забыв обо всем, то почему же прячутся от него днем?
Существуют разные версии по этому поводу. Одна из них, наиболее общепринятая, вошедшая в школьные учебники, следующая: бабочки летят на свет потому, что ночные цветы, с которых они обычно собирают нектар, белые. Источник света, таким образом, напоминает им цветок… Но почему в таком случае они не летят на луну или на звезды? Потому что они слишком высоко? Но ведь когда луна встает, ее пятно светится очень низко…
Нет, по-моему, тут что-то более сложное и, наверное, поэтичное. Обратите внимание на крылья любой ночной бабочки. Какой изысканный, какой утонченный рисунок, доступный пониманию лишь истинных ценителей! Не чета приторно ярким краскам денниц.... Самое же поразительное, что если дневных бабочек видят все и нам очень легко пристегнуть тут учение о видах окрасок, то, простите пожалуйста, я хочу спросить: почему ночные бабочки так красивы? Ну хорошо, некоторые из них, такие, как, например, пяденицы, окрашены так, чтобы замаскироваться на коре березы или другого какого-нибудь дерева. Глядишь, и птица не заметит, когда бабочка на коре весь день неподвижно сидит. Верно. Есть и здесь своя отпугивающая окраска, как, например, «глаза» у ночного павлиньего глаза или гигантской бабочки Атлас. Есть яркие красные или голубые полосы орденской ленты, причем обычно нижние полосатые крылья ее прикрыты верхними серенькими, маскировочными, а стоит птице или кому-то еще дотронуться до сидящей на коре дерева, почти незаметной бабочки, как она тотчас приоткрывает верхние крылья, внезапно «пугая» яркими нижними. Все так. Но вы попробуйте рассмотреть как следует верхние маскировочные. Рассмотрите внимательно пядениц, стрельчаток, некоторых огневок, хохлаток, волнянок, совок. Они ведь очень красивы, хотя и скромны. Есть совка, которая так и называется: божественная. А моли, разряженные как будто бы в цветные меха? Они тоже сумеречные или ночные! Если рисунок крыльев нужен только для маскировки или только для отпугивания, то почему же он так совершенен? Многие же ночные бабочки вообще прячутся очень далеко, например в дупла, где днем их никто не может увидеть. И все же узор их крыльев – образец совершенства. Почему?
И почему они так неудержимо летят на свет?
Простите за самонадеянность, но я придумал свою версию на этот счет. Мне кажется, что ночные бабочки вообще натуры гораздо более тонкие, чем дневные. Они, разумеется, обожают свет – разве можно свет не любить? Поэтому источник света в ночи манит их, притягивает. Слишком тонкие ценители, истинные знатоки, они, однако, не выдерживают вульгарной, ослепляющей щедрости дня.
Солнечное дневное великолепие – слишком сильное, убийственно сильное наслаждение для этих светолюбивых натур. Ведь все чрезмерное несет с собой гибель…
Уже упоминавшийся английский ученый доктор Вильяме настолько заинтересовался ночными полетами бабочек, что принялся во множестве вылавливать этих гурманов света в светоловушки, а затем тщательно исследовать их. За четыре года этот отчаянный человек выловил около 450 тысяч бабочек. Ценой такого огромного количества загубленных жизней он установил, например, что самки многих видов летают гораздо выше над землей, чем самцы. Разница уровней полета настолько велика, что можно поставить ловушки таким образом, чтобы ловить одних самок (16 метров над землей). Как же самцы встречаются с самками, зачем вообще нужна эта разница уровней полета?
Так родилась еще одна загадка энтомологии.
Но может быть, самое интригующее в жизни таинственных крылатых созданий – это чрезвычайная, ни с чем не сравнимая чувствительность самца в поисках самки. Поразительным явлением горячо заинтересовался еще Жан-Анри Фабр…
Далее я привожу целую страницу из книги Реми Шовена «Мир насекомых»: «Подобно тому, как самца бабочки привлекает пламя, его привлекает и самка. Он устремляется к ней за несколько километров, находя путь по издаваемому ею запаху. Я несколько раз был этому свидетелем в то время, как искал куколок бабочек. Вспоминаю об одной из них, вылупившейся на следующий же день под колпачком из металлической сетки. Это была самка Сфинкс оцеллата великолепных серых и фиолетовых тонов, превосходная бабочка, застывшая на стенке колпачка. В тот же вечер мое внимание привлек какой-то шорох: об оконное стекло бился только что прилетевший самец серо-коричневой бабочки, крупный, с большими фиолетовыми пятнами. Я в задумчивости смотрел на него перед лицом всех проблем, поднимаемых с виду таким простым фактом.
Мелль высчитал, что самка может привлечь самца с расстояния 11 километров. Эта цифра кажется преувеличенной или по меньшей мере исключительной. Но совершенно точно установлено, что крупные самцы могут, и при этом очень легко, находить своих самок на расстоянии пяти-шести километров. Ведь известна нам привлекающая пахучая железа, крошечная и притом выделяющая запах, не воспринимаемый человеком. Если предположить, что вся она полностью состоит из одного только сильно пахнущего вещества, то расчет показывает, что раствор этого вещества в зоне радиусом около 10 километров поразителен: получается примерно одна молекула на кубический метр.

Какими бы грубыми и приблизительными ни были эти расчеты, они все же характеризуют показатели данного явления. И вот этот-то такой слабый раствор молекул должен, однако, снабдить самца направляющим градиентом (мера возрастания или убывания в пространстве какой-нибудь физической величины при перемещении на единицу длины), потому что он находит самку легко и относительно скоро. Таким образом, вправе ли мы называть обонянием чувство, в такой степени отличное от нашего обоняния? Допустим, что это слово употребляется только за неимением другого, более подходящего. В этом случае много думали о «волнах» нового типа. Но этой гипотезе сильно недостает экспериментального обоснования».
К словам Р. Шовена можно добавить только, что швейцарский исследователь Форель установил способность самца находить самку на расстоянии не в 11, а в 18 километров! Это кажется фантастическим, тем более если учесть, что расстояние в 18 километров для бабочки несравнимо больше, чем для нас, ввиду ее малых размеров…
Как видите, загадок не счесть.
Кое-что, однако, известно. Известно, например, что количество видов бабочек, или, по-научному, чешуекрылых, достигает 140 тысяч. И почти каждый год ученые открывают все новые виды. По разнообразию форм бабочки уступают только жукам. Чтобы вы могли оценить эту цифру – 140 тысяч, вспомним, что количество видов всех позвоночных животных, обитающих на нашей планете, – млекопитающих, птиц, рыб, амфибий, пресмыкающихся – насчитывает лишь немногим более 40 тысяч.
Чешуекрылыми они называются потому, что крылья их в отличие от крыльев других насекомых покрыты своеобразными мелкими чешуйками, различными по форме и по окраске. Чешуйки – это видоизмененные волоски. Именно им бабочки обязаны яркостью и красотой своих крыльев.
Интересно, что чешуйки бывают не только ярко окрашены тем или иным пигментом. Бывают чешуйки бесцветные сами по себе, однако же они придают крыльям яркую переливчатую окраску благодаря резонансу при преломлении световых лучей. Такая окраска, называется оптической, и крылья именно таких бабочек практически не выцветают от времени. Свежесть и яркость сохраняют бабочки, собранные и расправленные более 200 лет назад самим Карлом Линнеем…
Удивительные метаморфозы
Они относятся к отделу насекомых с полным превращением. И вот это – непостижимо сложные метаморфозы – удивляет больше всего.
Сначала яйцо («все живое – из яйца» вошло даже в поговорку), затем гусеница, которая вырастает от крошечной, едва видимой глазом козявки, часто очень похожей на микроскопическую пушинку (некоторые породы бабочек так и расселяются – по ветру), до толстого, большого, иной раз в десяток сантиметров, червяка, который окукливается, то есть покрывается хитиновой скорлупой, а там… Там, в этом хитиновом саркофаге, гусеница распадается на отдельные живые молекулы, превращаясь в этакий живой «бульон»! Я-то думал раньше, что в куколочном состоянии гусеница просто худеет и у нее вырастают крылья. Нет! Она вся растворяется сама в себе, как бы умирает. Вот почему греки сравнивали со смертью…
И только потом, подчиняясь таинственному, чудесному закону, из молекул растворившейся гусеницы строится новое существо – крылатое и прекрасное. Бабочка! Ничего общего как будто бы не имеющая с толстым, медлительным, неповоротливым прошлым своим, когда она только тем и занималась, что без конца ела… Порхающая, яркая, воздушная, питающаяся (чаще всего) нектаром цветов, украшающая поля и леса, равная цветам, а то и превосходящая их по красоте! Ну не удивительно ли? Опять возникает вопрос: зачем? Зачем все так сложно? И сколько же лет понадобилось…
Интересно, что у некоторых насекомых, таких, например, как жуки-майки, превращение еще более сложное: у них две личиночные стадии, они дважды в течение жизни окукливаются (один раз это называется «ложнокуколка»), а личинка раннего возраста настолько не похожа ни на взрослое насекомое, ни на личинку старшего возраста, что ее долгое время принимали за насекомое совершенно другого вида…
Растут бабочки только в стадии гусеницы. Взрослые бабочки не растут (хотя и здесь есть исключения).

Вообще пища гусениц очень разнообразна. Они едят все части растений – корень, ствол, ветви, стебли, листья, цветы, плоды, семена, а также многое другое, о чем речь впереди. Однако гусеницы одного какого-нибудь вида бабочек, как правило, едят что-то одно. Лишь некоторые из них многоядны. Так, например, серьезный садовый вредитель – американская белая бабочка может употреблять в пищу более двухсот различных видов растений.
Некоторые же гурманы, наоборот, не довольствуются естественной тканью растения, а, поселяясь на стебле или внутри стебля, пускают в сосуды растения свою слюну, после чего на стебле вырастает мясистый «орешек» – галл. Сочная ткань галла – это как раз то, что гусенице нужно. Гусеницы некоторых видов бабочек совершенно игнорируют растения, предпочитая им шерсть животных и перья птиц. Таковы главным образом моли, в частности платяная моль. Гусеница мелкой африканской бабочки селится в рогах антилопы. А так называемая восковая пиралида всем яствам предпочитает воск.
Есть среди гусениц бабочек даже хищники. Так, совка Талпохарес сцитула питается червецом, живущим на оливковом дереве, а злая хищница Калимния трапезина живет обычно в домике из листьев и, выходя на охоту, ест не только червячков и личинок, попадающихся ей на пути, но и себе подобных. Весьма агрессивны и гусеницы небесно-синей голубянки Икар – они безжалостно нападают друг на друга.
Но пожалуй, наиболее любопытен образ жизни гусениц голубянок еще одного вида. Эти небольшие червячки забираются в самые недра муравейника и там с удовольствием едят муравьиные яйца. Самое же поразительное то, что хозяева не только не прогоняют кровожадных гостей, но… кормят их своими будущими детишками. В чем же дело? Оказывается, рыжие труженики обожают слизывать липкие выделения гусеницы и как будто бы даже пьянеют от удовольствия. Не один жучок ломехуза пользуется такими привилегиями!
Сменив шкурку несколько раз и набрав соответствующий вес, гусеница окукливается, то есть последний раз сбрасывает гусеничное одеяние и повисает где-нибудь в укромном месте в виде невзрачной сигарки. Многие, прежде чем сбросить одежды, навивают вокруг себя кокон, а то и зарываются в землю. Начинается чудесное превращение. «Рожденный ползать» и без конца есть получаёт все сведения о полете, все будущие свои способности там, во тьме саркофага....
Едят эти прекрасные летающие создания, конечно же, гораздо меньше, чем гусеницы, а пища их – пища богов, нектар. Нежный, тонкий, изящный, свивающийся в спиральку хоботок их прекрасно приспособлен для этой цели – он проникает в самые недра цветка. Мадагаскарский бражник всем цветам предпочитает лишь одну крупную прекрасную орхидею, венчик которой очень глубок – до 30 сантиметров. Там, в этой таинственной глубине, находится ароматный напиток. Как быть? И природа снабдила мадагаскарского бражника хоботком, длина которого – 35 сантиметров…
Интересно, что один ученый предсказал существование такого бражника, еще не видя его. «Раз есть орхидея с таким глубоким венчиком, значит, кто-то должен ее опылять!» – решил ученый. И действительно, вскоре такой «длиннохоботный» бражник был пойман.

И все-таки бабочки бывают разные… Хотя большинство из них ведет себя, как и положено красавицам, – перепархивает с цветка на цветок, однако есть и такие, которые цветочному нектару предпочитают сок, вытекающий из порезов и трещин на стволах деревьев, сок фруктов и овощей. Некоторые же… О вкусах, конечно, не спорят, но… Знаете, правду говорят, иногда лучше не знать всей подноготной. Я имею в виду не совок, многие из которых обожают пиво, алкоголь. И даже не прекрасных морфид, привлеченных запахом перебродившего бананового сока, спускающихся с обычной для себя высоты полета (восемь метров над землей) и теряющих голову до такой степени, что аборигены или европейские собиратели берут их в буквальном смысле голыми руками. Я говорю сейчас о представительницах рода ванесс, любящих лошадиный навоз, и особенно о великолепной переливнице и красавце тополевом ленточнике, которые не прочь навестить любые свежие испражнения и даже… гниющие трупы. Воистину: внешность – это одно, а вкусы и образ жизни – совсем другое. Увы.
Углокрыльница «С-белое» и та же переливница любят еще и пот животных и человека. Некоторые же тропические бабочки дошли до того, что, начав с пота, научились высасывать уже и кровь. Их нежный хоботок постепенно огрубел, стал прочным и острым, проникающим сквозь кожу.

Итак, в массе изящных этих красавиц есть алкоголички, фекалофилы, некрофилы, вампиры. А есть и воровки. Такова, например, печально известная пчеловодам бабочка мертвая голова. Вечером, а то и ночью, когда уставшие пчелы угомонятся, она внезапно пролезает прямо в леток, гудит мощными крыльями, пищит (мертвая голова – единственная наша бабочка, умеющая издавать звуки, хотя в тропиках есть и не такие крикуньи) – пищит то ли от страха, то ли, чтобы пчел испугать, – а сама бессовестно высасывает сотовый мед, собранный пчелами с таким трудом. За один прием, в течение получаса, она высасывает чуть ли не чайную ложку душистого меда, за что пчеловоды, конечно, смертельно ненавидят ее.
Да, так что вот. Всякое бывает.
Куда приятней узнать, что в отличие от этих невоспитанных и прожорливых некоторые бабочки вообще ничего не едят, а живут за счет накоплений, сделанных в гусеничном возрасте. Вы только представьте себе, сколь многих хлопот лишаются эти аскеты! Летай себе, порхай в свое удовольствие, встречайся с партнерами, води хороводы при солнце или при луне! Что бы сказал по поводу такой «тунеядки» наш старый, уважаемый баснописец Иван Андреевич Крылов?
Живут взрослые бабочки несколько месяцев (крушинница – до десяти месяцев). Некоторые выводятся из куколок в конце лета, зимуют где-нибудь в куче сухих листьев или в щели, а с первым теплом вылетают и порхают над проталинами и вдоль дорог, хотя во многих местах лежит еще снег. Таковы наши траурницы, павлиний глаз, крапивницы, лимонницы, многоцветницы, ванессы «Эль-белое», углокрыльницы «С». Многие другие бабочки зимуют в стадии куколок. Гусеницы некоторых видов живут до двух лет. Таковы древоточец пахучий и древесница въедливая; оба они путешествуют в древесине деревьев. Личинки некоторых молей могут при особых (неблагоприятных!) условиях прожить целых семь лет! Они периодически впадают в этакий летаргический сон.
И все-таки странно. Почему все так сложно? Зачем гусеница, куколка? Не есть ли и тут, как и в случае с цикадами, поучительный закон природы: прежде, чем получить способность летать, необходимо пройти суровую «школу жизни», когда ты вынужден жаться к земле, ползать, есть без конца, даже и не помышляя о возможных полетах… И только потом, после длительного периода «размышлений» и перестройки в «куколочном» саркофаге, у тебя вырастут прекрасные, мощные крылья…
Есть над чем подумать!