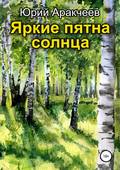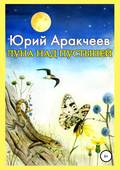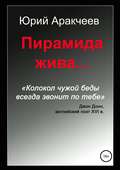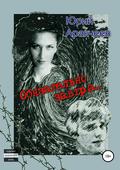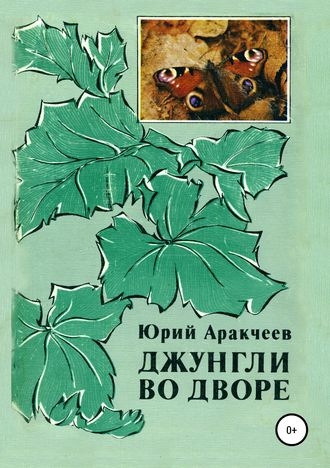
Юрий Сергеевич Аракчеев
Джунгли во дворе
Мегарисса
– Ой, смотри, какая стрекоза! – сказала Вика, когда я уже свернул с дороги и, держа наготове фотоаппарат, на цыпочках приближался к диковинному существу, сидящему на стволе березы. Солнце, опускаясь, желтело, и крылья «стрекозы» отливали золотом. Я приблизился на достаточное расстояние и, не дыша, начал прицеливаться. На матовом стекле видоискателя появилось наконец резкое изображение гигантского наездника, залитого золотыми солнечными лучами. Мало сказать, что он был хорошо сложен – он был изящен. И странен. Очень длинные ноги, длинное гибкое туловище, тонкие усы, узкие прозрачные крылья. И непропорционально большая шпага на конце брюшка – яйцеклад. В столь оригинальном его строении все, казалось, было подчинено какой-то одной, пока еще неясной нам цели. И еще он непонятным образом напоминал мушкетера.
Сделав на всякий случай несколько первых поспешных снимков, я теперь мог рассмотреть его внимательнее. Наездник сидел в странной позе. Прочно упершись ногами в кору березы, он изящно приподнялся, изогнулся… И вонзил шпагу прямо в березовый ствол. Выгнутое туловище, симметрично расставленные ноги и перпендикулярно поставленная шпага – оригинальная буровая установка. Напрягаясь, он погружал шпагу глубже и глубже. За две-три минуты шпага проникла в березу почти на всю свою длину, и, делая последние усилия, мушкетеру пришлось даже присесть. Широкая двойная петля выгнулась у самого основания шпаги – по-видимому, ножны.

Наконец, сделав свое дело (поразив невидимого врага?), мушкетер начал вытаскивать шпагу, грациозно приподнимаясь на тонких ногах. Он уже почти совсем распрямил их, а шпаге все конца не было. Но вот, чуть ли не подпрыгнув на цыпочках, он выдернул острый конец и, вытянув свое оружие вдоль ствола, облегченно опустился на бархатистую кору.
Вика наблюдала вместе со мной, стоя, правда, на почтительном расстоянии, и теперь, увидев шпагу во всей длине, восхищенно и уважительно ойкнула.
Не обращая на нас внимания, наездник принялся чиститься. Только тут я разглядел, что голова у него обидно маленькая. Правда, глаза большие. И очень гибкие, подвижные усы. Ноги почти прозрачные, красновато-рыжие на просвет и столь же прозрачная, красноватая, необычайно тонкая талия. Вообще теперь, не в работе, а на отдыхе, он вовсе не был изящным, скорее нескладным, и непропорционально длинная шпага волочилась за ним, затрудняя движения, делая его неуклюжим. Не ловкий мушкетер, а усталый, волочащий чрезмерно громоздкую пику воин.
Отдохнув и почистившись, он, тем не менее, засуетился и начал быстро передвигаться по коре березы, осторожно и тщательно трогая и постукивая ее своими чудесными усиками, которые то расходились в разные стороны, то параллельно сближались, то действовали каждый сам по себе и ощупывали поверхность коры, как гибкие нежные щупальца. Местами кора была усеяна дырочками, словно побита дробью, и, касаясь дырочек, усики изгибались и, как маленькие змейки, ныряли в загадочную глубину.

Наблюдая за ним, я вспомнил, что в юности, в пионерском лагере, мы очень боялись этих огромных «ос», уверенные, что столь длинное «жало» нужно им если не для нападения, то по крайней мере для обороны. Мы не знали, что яйцеклад – так же как, например, «сабля» кузнечика – для нас, людей, совершенно безвреден…
Солнце опускалось все ниже и уже коснулось макушек далекого леса. Я сделал еще несколько снимков, и мы с Викой продолжали свой путь по аллее старых берез, ведущей в замок баронессы Мастдорф, бывшей владелицы этих мест.
Возвращаясь уже в сумерках, мы увидели наездника на том же стволе – он опять погрузил свою шпагу почти на всю длину и опять напомнил элегантного мушкетера.
Позже я узнал, что нам повезло. Это был гигантский наездник – мегарисса. Мегарисса вообще не очень часто встречается, а еще труднее застать ее «за работой».
Но что же у нее за работа? И почему облик мегариссы столь своеобразен?
Есть в природе стволовой древесный вредитель – березовый рогохвост. Во взрослом состоянии это насекомое похоже то ли на большую осу, то ли на гигантскую муху с коротким «рогом» на конце брюшка. Под рогом есть еще и небольшой яйцеклад. Рогохвост пробуравливает яйцекладом кору березы и под нее откладывает свои яички. Из яичек вылупляются крошечные червячки-личинки, вооруженные, однако, крепкими челюстями, и беззастенчиво вгрызаются в живое дерево, прямо в ствол. Питаясь древесиной и соками, личинки растут, прогрызают внутри дерева длинные ходы-тоннели и, конечно, думают, что сам черт им не брат, потому что никто, мол, их не видит.
Кстати, челюсти личинок рогохвоста необычайно мощны. Ученые пытались ставить свинцовые преграды на пути личинок – они прогрызали отверстия в металле. Столь же крепки челюсти и взрослых, крылатых рогохвостов. Ведь если личинка благополучно заканчивает свой цикл и окукливается в глубине ствола, то по выходе из куколки взрослому рогохвосту приходится выбираться на свободу из этой своеобразной древесной темницы. А это очень не просто…
Жана-Анри Фабра очень заинтересовал примечательный факт: взрослые рогохвосты прокладывают не прямые, перпендикулярные поверхности ствола тоннели, а аккуратные дуги, точь-в-точь совпадающие с дугой окружности. Почему? В результате долгих и тщательных наблюдений все объяснилось. «Если бы личинка перед окукливанием легла головой в точке, наиболее близкой к поверхности коры, то рогохвосту можно было бы грызть прямо перед собой, – пишет исследователь. – Он прогрыз бы горизонтальный канал поперек ствола – кратчайший путь к свободе. Но личинка лежит вдоль ствола, ее голова направлена не к коре, а к вершине дерева. И вот рогохвост постепенно переходит из отвесного положения в горизонтальное».
Как тут не восхититься опять мудростью инстинкта! Ведь это представить только, что рогохвост будет грызть прямо перед собой, вдоль ствола, – он никогда не выберется на свободу! Но возникает другой вопрос: почему бы личинке не приблизиться в конце своего развития к поверхности ствола, так, как это делают, например, тоже странствующие в дереве личинки жуков-усачей? Почему-то природа пошла здесь другим путем. Возможно, потому, что в глубине ствола куколка находится в наибольшей безопасности, ведь близкие к поверхности личинки и куколки усачей – легкая добыча дятла! Может быть, причина – естественный отбор? Фабр встречал в древесине рогохвостов, так и не сумевших прогрызть себе путь на свободу…
«Твердость покровов рогохвоста влечет за собой и постепенность поворота к коре, – продолжает Фабр. – Здесь насекомое бессильно – его поведение заранее определено его строением. Но рогохвост может свободно поворачиваться вокруг своей оси, он может грызть древесину в ту или иную сторону, может в разные стороны направить свой путь. Ничто не мешает ему проточить извилистую кривую спираль, неправильную дугу».
Так в чем же дело? Каким же образом рогохвост придерживается верного направления?
«Моряк, затерянный в просторах океана, руководствуется компасом. Чем же руководствуется рогохвост в темноте древесины ствола? – продолжает далее Фабр. – Есть ли у него компас? Можно подумать, что есть… Личинкой рогохвост бродил в запутанных ходах. Наступило время выбираться наружу, и рогохвост сразу берет совершенно точное направление».
Ошибка здесь может стать роковой: небольшое отклонение – и рогохвосту не хватит сил, он останется навечно в деревянном склепе ствола.
«Неоспоримо, есть какой-то «компас» и у личинки усача, и у взрослого рогохвоста, – приходит к выводу Фабр. – Но что это за компас? Строение древесины, направление ее волокон не помогают делу. Юг, север, холод, тепло – нет, они тут ни при чем. Рогохвост прогрызает ход то на север, то на юг, куда придется. Может быть, это звук? Тоже нет. Какие звуки могут показать кратчайший путь к коре? Сила тяжести? Нет, я находил и таких рогохвостов, которые двигались головой вниз.
Что же руководит здесь рогохвостом?
Я не знаю.
Не в первый раз мне приходится наталкиваться на темный вопрос. Уже при первых моих наблюдениях над осмиями я встретился с такой загадкой. Я придумал тогда особый вид чувствительности – чувство направления. Познакомившись со златками, усачами и рогохвостами, я снова указываю на эту способность. Это не значит, что я настаиваю именно на таком слове – неизвестное не может иметь названия. Мои слова «чувство направления» показывают только, что насекомое умеет найти кратчайший путь из мрака к свету. Это признание в незнании, и его, не краснея, разделит со мной каждый добросовестный наблюдатель».
Так писал крупнейший ученый накануне двадцатого столетия.
Но и до сих пор наука мало продвинулась в исследовании таких феноменов. Именно такого рода загадки, по-видимому, и натолкнули Реми Шовена на изучение «биологической связи», «ясновидения» у насекомых, «волн нового типа» и тому подобных таинственных пока еще явлений.
Оставим и мы пока загадку рогохвоста, потому что нам предстоит задуматься над другой, не менее интересной.
Сейчас мы узнаем о драме, которая разыграется в недалеком будущем во мраке тоннеля, проложенного в стволе живой березы, после того как мы волею судеб оказались свидетелями нелегкой работы наездника-мегариссы.
Что же это за драма? Каковы последствия странных действий элегантного «мушкетера», зачем-то втыкающего свою длинную шпагу в древесный ствол?
Как и в нашей человеческой жизни, одна сторона часто и не подозревает о том, что думает и чувствует сторона другая…
Личинка рогохвоста, набравшая уже приличный вес, преспокойно странствует в глубине ствола, наслаждаясь обилием пищи и безопасностью. Она ничего не знает, а возможно, и знать не хочет ни о том, как страдает пожираемая ею береза, ни о том, что где-то там, в неведомом ей пока еще мире, в голубом бескрайнем просторе летают нескладные на первый взгляд существа. Как и у всех порядочных насекомых, самцы у них встречаются с самками, совместно радуются жизни, справляют мимолетные свадьбы… У самок, между прочим, на конце брюшка есть непропорционально длинные копья, которые, вероятно, им даже мешают в полете. Зачем они? А какое личинке рогохвоста до этого дело?
Нет дела и мегариссе до печалей и забот толстой личинки. У нее своя забота. Была уже встреча с самцом, и теперь нужно позаботиться о том, чтобы будущие дети не умерли с голоду, чтобы росло и процветало потомство изящных мушкетеров-мегарисс (их еще называют «осы-гусары»). Она не вдается в самоанализ и философию (и слава богу!), она только твердо знает, что питание для ее детей там, в глубине ствола. Там питание, там и их место – и ясли, и детский сад, и даже, пожалуй, школа… Нужно их туда и отправить. Как? А шпага-яйцеклад на что?..
Спокойна личинка рогохвоста, довольна жизнью. Еще не так уж и много дней во мраке, а там можно будет окуклиться. Никакая птица не достанет куколку в глубине ствола, никто не достанет. Что будет потом, личинка не знает, но она твердо уверена: все будет нормально. Пока же так приятно странствовать в ароматной, вкусной, пульсирующей соками глубине ствола…
И не знает она, что дети мегарисс – маленькие такие червячки – тоже любят странствовать. Только не в стволе живой березы, а в теле живой личинки рогохвоста.
А мегарисса тем временем уже ощупала усиками кору березы и выбрала подходящее место…
Место, которое выбрала в конце концов мегарисса, вот какое: поблизости должна находиться живая и здравствующая личинка рогохвоста, а сам тоннель должен подходить как можно ближе к поверхности ствола. Удивительно, что отверстия в коре, напоминающие следы дроби, сделаны не мегариссой и не рогохвостом. Это отверстия, проделанные еще одним древесным вредителем – жуком-короедом, или заболонником. А мегарисса пользуется ими лишь для того, чтобы сократить себе объем работ.
Определив место бурения, мегарисса приподнимается как можно выше на длинных ногах, ставит перпендикулярно к поверхности ствола яйцеклад и начинает березовый ствол сверлить. Некоторые из родственных мегариссе наездников сверлят ствол в полном смысле слова, поворачиваясь вокруг собственной оси и вертя сверлом-яйцекладом, некоторые, как и наша знакомая мегарисса, сидят неподвижно, а работают половинками яйцеклада, как пилочками. Дело в том, что яйцеклад у мегариссы не только длинный и острый, но и очень хитро устроенный. Он состоит из двух продольных половинок, на каждой из которых есть твердые насечки наподобие напильника или короткозубой пилы… Яйцеклад погружается, и вскоре заботливая мама чувствует, что цель достигнута: вот он, тоннель. Последнее усилие – и по тонкому каналу внутри яйцеклада соскальзывает крохотное яичко.
Если бы личинка рогохвоста действительно могла рассуждать философски, то ей можно было бы уже теперь заказывать панихиду. Она же, ничего такого не подозревая, продолжает наслаждаться жизнью, набирая живой вес… Но старается она уже фактически не для себя. Через некоторое время из яичка мегариссы выползает крошечный червячок, великолепно ориентируясь в темном тоннеле по запаху, находит откормленную личинку, и…
Нет, мегариссина личинка не убивает личинку рогохвоста сразу. Сначала она располагается снаружи на ее теле и блаженствует, высасывая потихоньку кровь своего живого хозяина. Лишь в конце развития, перед окукливанием, она окончательно дает волю своему аппетиту… А потом окукливается. Тут же, во тьме тоннеля, выводится молодая мегарисса и в свою очередь прогрызает себе дорогу к свету. Выбравшись на свободу, вполне взрослая, готовая к полноценной жизни мегарисса ищет себе мимолетного спутника жизни.
И все начинается снова.
Интересно, что, встречаясь на воле, взрослый рогохвост и взрослая мегарисса не обращают друг на друга внимания…
Так какова же обещанная загадка? А вот она. Каким образом узнает мегарисса расположение ходов рогохвоста? Какие органы чувств, вернее, органы каких чувств, расположенные, очевидно, на усиках, помогают ей в этом?
Может быть, мегарисса определяет местонахождение личинки и расположение ее ходов по звуку, который издают грызущие дерево челюсти? Насколько же чувствительными тогда должны быть ее усы?
Рассказ о собаке, которая мне повстречалась
А вот еще эпизод из подушки неких путешествий.
Был солнечный, теплый, но уже какой-то печальный, тихий день в конце августа. Отправляясь в очередное путешествие, я вышел из сарайчика, прошел по березовой аллее Модеста Чайковского, пересек деревню Подушкино и, немного не доходя до пруда, остановился, любуясь первой легкой желтизной, которой украсились дубово-осиновочеремуховые кущи Соловьиного оврага. Этот овраг идет параллельно Паучьему, в километре от него, и если рядом с Паучьим расположен лесхоз, то на краю Соловьиного – Подушкино. В мае здесь проходят обычно вокальные конкурсы, этакие «кантаджиро», и если пение соловьев и дроздов, кваканье лягушек – праздник для слуха, то аромат цветущей черемухи не меньший праздник для обоняния. За оврагом над верхушками дубов вздымался широкий горб Русского поля, сейчас буровато-зеленоватый, а в те майские и июньские дни совершенно желтый от цветущей сурепки.
Стоя на краю оврага и меланхолически вспоминая о прошедшей весне, я вдруг увидел собаку. Молодая, буро-рыжая, явно породистая гончая выбежала из кустов и направилась в мою сторону. Следом за ней вышел невысокий, неопределенно улыбающийся мужчина и тоже начал приближаться ко мне. Собака подбежала, приветливо обнюхала мои ноги, как-то растерянно побегала вокруг и вдруг улеглась в нескольких шагах, весело поглядывая на меня. Вскоре подошел и мужчина, поздоровался и спросил:
– Ваша?
– Нет, – сказал я. – В первый раз вижу.
– Да вот, понимаешь, пристала ко мне и бежит. Потерялась,
наверное.
Мужчина ушел, а собака осталась.
Постояв, поправив на плече сумку с аппаратурой, я двинулся дальше. Собака немедленно вскочила и радостно поспешила за мной. Я почувствовал неловкость. Трудно, пожалуй, объяснить, но я боюсь чужой привязанности.
Как бы то ни было, мы с собакой прошли немного по краю оврага, а затем спустились к началу пруда. В самом устье речушки здесь густо стояла осока, а рядом кустились низенькие заросли буроватой череды с невзрачными желтыми цветочками. А в общем это был вполне подходящий микромир, в котором должны обитать какие-нибудь интересные существа.
И верно. Во-первых, очень интересно было наблюдать за крупными, глазастыми, удивительно нахальными мухами рыжего цвета. Эти мухи не только очень маневренно и быстро летали, но еще и обладали злорадством. Как я вскоре сообразил, добычей рыжих были маленькие, исключительно симпатичные черненькие мушки – складненькие, пропорционально сложенные, с радужно отсвечивающими на солнце крылышками. Все в этих черненьких вызывало симпатию: и как они сидели, широко расставив микроскопические лапки, и как постоянно чистили свое и без того чистое, лакированное тельце и короткие усики, и круглую, словно эбонитовую, головку, и отливающие зеленым, красным и синим прозрачные крылья, В своем стремлении к чистоте и в доверчивости они не обращали внимания на то, как буквально в двух сантиметрах от них на тот же самый лист осоки приземлялся огромный рыжий бандит. Большеголовый, покрытый торчащей щетиной, весь какой-то нескладный и неопрятный, он нахально поводил круглыми желтыми глазами, и… прощай, симпатичная мошка! Вот она уже грубо схвачена, смята рыжим разбойником, а вот уже летят вниз, на землю, бесформенные хитиновые останки и медленно планируют невесомые крылышки. Да… И вот ведь что больше всего меня возмущало. Если разбойник так уж создан, что не может не охотиться на черных мушек, то и пусть себе охотится. Зачем же издеваться? Ведь с первого взгляда ясно, что и быстроты и маневренности рыжему вполне достаточно для того, чтобы сразу наброситься на черненькую, без всяких штучек. Так нет же! Он нарочно садится рядом со своей жертвой, чтобы садистски насладиться зрелищем ее последних минут.
Во-вторых, я с удовольствием снял ручейника, сложившего крылья домиком на листе осоки. В-третьих, на невзрачных цветочках череды вдруг сверкнул красновато-золотой огонек – бабочка огненный червонец, или огненница.
И пока я возмущался поведением рыжего садиста, а потом снимал ручейника, искал еще чего-нибудь, наконец, увидел огненницу и начал охотиться за ней – все это время собака держалась поблизости. Нет, она не путалась у меня под ногами, не вспугивала тех, за кем я охотился. Ни скулежом, ни лаем, ни какими-нибудь особенными укоряющими взглядами не намекала мне, что хватит, мол, заниматься чепухой, пойдем дальше. Она даже не легла с красноречивым выражением морды и безнадежно обвисшими от скуки ушами. Она весело бегала как раз на таком расстоянии, какое требовалось для того, чтобы не мешать, потом искала что-то в кустах, потом непринужденно прилегла отдохнуть, тоже на прекрасно рассчитанном расстоянии – так, чтобы огненницу, за которой я начал охотиться, не вспугнуть. И она не сделала даже попытки глупо «помочь» мне в моей охоте. Ну ничего, ничего в ее поведении не было такого, что каким-то образом тяготило бы меня.
Тут надо сказать, что к собакам у меня отношение особое. Я их, конечно, люблю. Но вот уважаю, должен признаться, далеко не всегда. Кто, например, вызывает мое безоговорочное уважение – так это волк. Волк – личность, он всегда сам за себя постоит и ответит. Не его вина, что для того, чтобы жить, ему нужно убивать. Да, бывают случаи, когда волки перерезают гораздо больше овец в стаде, чем могут взять, и на первый взгляд кажется, что это ужасно. Однако кудрявые блеющие животные, которым и в голову не приходит постоять за себя, не вызывают у меня особенного сочувствия. Мне иногда кажется, что волки просто-напросто мстят овцам за утрату ими чувства собственного достоинства. Скажете: овцам нечем защищаться, у них нет волчьих зубов. А копыта? Известны же многочисленные случаи, когда, например, слабенькие скворцы, дрозды и даже ласточки отгоняли от своих гнезд не только сорок и ворон, но и ястребов, соколов. Так что если сравнивать собаку и волка, то… Впрочем, о волках много написано, особенно в последнее время, и не случаен, наверное, этот интерес к умеющему за себя постоять, ценящему свою свободу животному,
Согласитесь, что рабство, в какой бы форме оно ни было, – отвратительная вещь. Оно унижает обоих – и раба, и хозяина. Может быть, как раз поэтому и опасна чрезмерная привязанность. Ведь так часто привязанность перерастает в подобие рабства, когда один из двоих незаметно и потихонечку теряет собственное лицо.
Вот за это я не всегда уважаю собак.
Прошу понять меня правильно. Я знаю о сенбернарах, спасающих людей, засыпанных снежной лавиной. Или о собаках-поводырях, проявляющих к своему хозяину высшую степень сочувствия и доброты. Это настоящие друзья, жертвующие собой ради хозяина-друга, а не ради хозяина-господина. Но я говорю не о них. Я говорю о тех, которые не имеют своего лица. А таких, увы, много. К сожалению, само вечно подчиненное и бесправное положение собаки часто и лишает ее индивидуальности. Она привыкает к палке, поводку и ошейнику, принимает их как должное, ей и в голову не приходит в чем-нибудь усомниться. Она как будто бы даже любит их.
Собаки в своем положении не виноваты, скажут некоторые. Возможно. Но ведь многие собаки, даже если их освободить, уже не могут обойтись без палки, поводка и ошейника. Заслуживают ли они уважения? Говорят, когда собаке делают вивисекцию, она лижет руки своему мучителю. Ее положению не позавидуешь. Но все-таки, может быть, лучше, если бы не лизала?
А первый признак потерянной индивидуальности – нудная, надоедливая, не уважающая ни вас, ни саму себя навязчивость. Ну, скажите, разве вы не встречали таких собак? Они не могут без вас обойтись ни минуты не потому, что любят. Им просто скучно, невыразимо скучно наедине с собой…
И еще один очень серьезный упрек. Слишком привязчивая, слишком теряющая свое лицо собака никогда не бывает по-настоящему верной. Когда ваше положение плохо, то стоит кому-то поманить ее, пообещав большие выгоды, как она… Ах, что там говорить! Лучше уж иметь дело с волком – по крайней мере знаешь, чего от него можно ждать.
Ну вот, а у этой собаки не было навязчивости. Или я еще не успел как следует разглядеть?
Огненницу я сфотографировал. Кокетливая бабочка! Садится на цветок и крылья раскрывает. Только я, подойдя на должное расстояние, начинаю наклоняться и уже вижу в видоискателе красновато-оранжевое пятно, которое постепенно приобретает очертания бабочки, как она в самый последний момент грациозно взлетает. И не улетает ведь совсем. В двух шагах садится и крылышки то сложит, то распахнет, а то еще как будто подрагивает ими. Но все-таки характер был у нее хотя и женский, однако терпимый. В меру помучив, она все же дала себя сфотографировать. Об отсутствии индивидуальности у огненницы говорить не приходится…
Делать на этом месте больше нечего было. Я поднялся чуть выше по оврагу, перебрался через ручей с намерением выйти на Русское поле и идти опять по краю его, по опушке леса. Собака деловито и опять же как-то весело, радостно – вот в чем суть! – бежала за мной. Бежала довольно близко, когда я шел по оврагу и перебирался через ручей, а когда стал взбираться по противоположному склону, она лихо опередила меня, как это часто делают собаки, и скрылась наверху. А я увидел немного в стороне, на склоне, кустики какого-то растения и, подумав, что там что-нибудь интересное может быть, добрался до него. И страшно обрадовался, потому что он весь был усыпан голубовато-серыми ложногусеницами пилильщика. А ложногусеницы почти так же эффектны и пластичны, как настоящие. Они – моя слабость.
Только я приспособился фотографировать, как вдруг услышал, что кто-то негромко и жалобно скулит. Что же вы думаете? Собака, поднявшись первой, подождала, а когда я так и не появился, она вернулась и, не увидев меня на тропинке – ведь я в три погибели склонился над ложногусеницами, – решила, что я ее бросил. Как только она разглядела меня у куста на склоне, тотчас же успокоилась и опять бегала поблизости как ни в чем не бывало. Ну не трогательная ли собака!
Дружок – так окрестил я ее тотчас.
– Ну что же ты испугался, Дружок? Что же ты, дурачок, испугался!..
Приближалось время обеда.
Надо сказать, что это был один из последних моих приездов в лесхозовский сарайчик. А потому почти никакой еды там не оставалось, была только та, что я привез с собой из Москвы и теперь нес в сумке. И еды-то, честно говоря, было кот наплакал. Я ведь собирался непоздно возвратиться в Москву и там обедать. Так что не обеда время приближалось для меня, а легкой закуски. И вот, стоило зашелестеть бумагой, разворачивая хлеб и сосиски, как Дружок опрометью подбежал ко мне и от нетерпения слегка зарычал. Я бросил ему сосиску – она с быстротой звука исчезла, и, не в силах сдержать нетерпение, переминаясь с ноги на ногу и горящими глазами глядя на мои руки, он зарычал опять. Мне это не понравилось. Я даже подумал, что при всем благородстве, которое он уже показал, не мешая фотографировать, он все же не настолько благороден, чтобы не смотреть в глаза, вымаливая подачку. Вот где проявился неприятный инстинкт!
– Ты что?! – сказал я, раздосадованный. – Теперь уж и меня готов съесть?
Но и это мой Дружок понял. И взял себя в руки. Схватив полсосиски, которые я ему бросил после своих слов, он уже не вел себя так невоздержанно. Сделав явное усилие над собой, он слегка отбежал и постарался опять изобразить на своей морде выражение расположенности и привета. Хотя насколько он был голоден, можно было понять по тому, с какой молниеносной скоростью он проглотил и хлеб, который я ему бросил. И последнюю сосиску.
Мы немного походили по опушке, потом отдохнули, лежа на краю Русского поля в зарослях великолепных ромашек. И здесь Дружок вел себя с достоинством. Единственное, в чем он позволил себе собезьянничать с меня, – это тоже улечься и даже спать. Но это было, как я понял теперь, не обезьянничанье, а солидарность. Видимо, к тому же он действительно захотел поспать. Все-таки время от времени он поднимал голову и смотрел, не скрылся ли я от него опять…
Именно здесь, лежа среди ромашек, глядя на Дружка и размышляя, я понял: ужасно люблю таких вот собак. С такими и начинаешь по-настоящему понимать: волк все же не то. Волк – индивидуалист, эгоцентрик и хищник, Разбойник, словом. С ним все же по-настоящему не договоришься. А вот такой Дружок – это да! С ним ничего не страшно, с ним жить да жить. Словом, он настоящий друг.
Пора было, однако, возвращаться в сарайчик, а затем и в Москву. Когда мы шли по деревне, я спрашивал у встречных, не знают ли, чья собака. Никто не знал. Что делать? Надо было куда-то Дружка пристроить, куда-то Дружка при…
И тут только я осознал, что происходит. Я собираюсь избавиться от Дружка. О господи. Но что же, но что же делать?
Взять его в Москву с собой? Но что же с ним будет в Москве? Что он будет делать во время моих частых отъездов? Не могу же я брать его с собой в командировки, а дома присматривать некому, я один…
Что же делать? Куда же все-таки Дружка девать?
– Хотите? – спросил я кого-то в деревне.
– Да что вы! У нас своих хватает. А собака хорошая…
– Да вот именно что хорошая.
Пришли к сарайчику.
И здесь мой Дружок проявил тактичность – не пошел со мной без приглашения внутрь. Я лихорадочно искал, чем бы его накормить. Нашел сахар – не ест, конфеты – не ест. Правда, был мясной суп десятидневной давности, я выловил оставшийся там маленький кусочек мяса и дал Дружку, а суп вылил. Вылил потому, что не мог кормить благородного Дружка старым и явно прокисшим супом, вылил из уважения к нему. А потом видел, как он вылизывает землю в том самом месте…