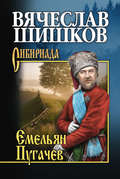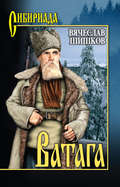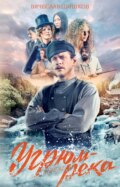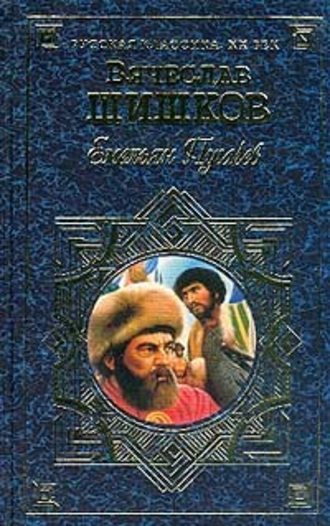
Вячеслав Шишков
Емельян Пугачев, т.1
2
Еще не прошло и месяца, как Пугачев поднял восстание, а уже не только смежные две губернии – Оренбургская и Казанская, но и обе столицы, потеряв покой, пришли в смятение.
Местные власти, не имея общего руководства, маневрировали находившимися в их распоряжении малочисленными отрядами вслепую. Петербург слал генерала Кара.
В то же время со всех сторон, большими толпами, к Пугачеву подходил народ.
В Башкирии был получен государев указ, произведший на тамошний народ неотразимое впечатление. И Башкирия зашевелилась. Прибывший туда от бригадира Корфа сержант Белов обратился к собравшимся с приказом идти на помощь Верхне-Озерной крепости. Башкирцы, осердясь, кричали в ответ:
– Довольно русским начальникам обижать нас! Мы все идем к заступнику-государю.
Первая партия в четыреста конных, вооруженных луками и копьями, башкирцев и впрямь вскоре прибыла к Пугачеву. Затем старшина, он же мулла, Кинзя Арсланов и Еман Серай привели еще тысячу своих соплеменников. Довольный Пугачев произвел муллу Кинзю Арсланова в полковники.
По мере того как регулярные войска распоряжением Рейнсдорпа покидали маленькие крепостцы, форпосты и собирались в центральных пунктах обороны, оставшееся население с особой охотой принимало сторону новоявленного государя, брошенные же укрепления тотчас занимались пугачевцами. Так были заняты крепости Пречистенская, Красногорская и другие более мелкие укрепления.
Пугачев о многих занятых пунктах, за их отдаленностью, даже и не знал. Новые самозваные начальники захваченных укрепленных мест, действуя без его ведома, но его именем, всюду встречали привет и сочувствие народа.
Помещики, видя надвигавшуюся на них грозу, оставляли свое добро и кто куда бежали. Все имения, верст на двести вокруг Оренбурга, были брошены владельцами. Первыми удрали из своих гнезд отставные офицеры Ляхов, Кудрявцев, Куроедов, еще Михайло Карамзин[99].
Едва успел старый Карамзин выбыть с места, как в его село Михайловку нагрянула дюжина яицких казаков. Работавшие у церкви крестьяне бросились было бежать.
– Стойте! – закричали казаки. – Ведите сюда вашего барина на суд, на расправу.
– Ох, кормильцы... Выбыл, выбыл барин.
– Тогда собирайте поголовно всех на господский двор.
Сбежавшимся крестьянам седоусый казак Назарьев объявил:
– Мы посланы от армии государя Петра Федорыча зорить помещичьи дома, а всем вам, крестьянам, давать волю. Отныне вы, мужики, вольны! На помещика не работайте, податей ему не платите, скот и земли барские, а такожде хлеб забирайте себе.
Вскоре в Михайловку пришли три крестьянина из соседней деревни. Был праздник, церковь и церковная ограда полны народа. Один из прибывших, старик Травкин, собрав вокруг себя крестьян, сказал им:
– Вот мы втроем были под Оренбургом, у самого батюшки. Он принял нас милостиво, спросил: «Служить ко мне, что ли, прибыли?» Мы же ответствовали: «Нет, не служить, а к тебе, отец, на посмотренье. И насчет воли спросить у тебя, свет наш». Батюшка сказал: «У меня нет невольников, у меня все вольны, и вы такожде. Всем объявляйте, что податей помещикам не платить, на помещиков не работать, некрутов в царицыну армию не давать. А чтобы верные крестьяне ко мне шли». И выдал нам, свет наш, великий указ. Вот он! – Старик Травкин вынул из-за пазухи бумагу с печатью и наказал народу: – Зовите попов, пущай чтут вгул царскую бумагу.
Из церкви вышли на паперть два священника. Один из них спросил собравшихся:
– Что надо, православные?
Старик Травкин подал бумагу, сказал:
– Читай, батя, в народ. От государя Петра Федорыча грамота... А не станешь, тогды на себя пеняй!
Священник, побледнев, принялся дрожащим голосом читать. Народ опустился на колени. Только барский бурмистр остался стоять столбом. Ему дали по затылку, и он тоже пал на колени. Когда чтение закончилось, из толпы приказали:
– Читай вдругорядь, да появственней!
Священник прочел указ трижды. Затем всей толпой пропели многолетие государю.
Угостив в награду за послушание попов, крестьяне велели им сделать с указа несколько списков. И на другой день пять человек доброхотов, вместе со стариком Травкиным, заложив в тарантасы барских лошадей, стали разъезжать с теми списками по дальним деревням. Встречным людям они махали шапками, кричали:
– Радуйтесь и веселитесь! Волю везем. Вот он – указ царев.
А когда попадались им на дороге экипажи с помещиками или начальством, они сдергивали шапки и, на всякий случай, низко кланялись господам.
И в иных местах объявлялись грамотеи-доброхоты, которые строчили новые списки, а порою составляли и новые указы. Усердные царю-батюшке гонцы развозили эти грамоты по многим жительствам. Так повсюду двинулся, зашумел народ, словно полая вода весной.
Меж тем старик Травкин успел перебраться из Оренбургской в Казанскую губернию, где впоследствии и был, по неосторожности, схвачен стражею.
Как уже было сказано, многие и многие помещики покинули свои гнезда. А вот барыня Пополутова никак бежать не пожелала. Проводив мужа в Пензу, она схоронилась в лесу, в сторожке. Однако, когда наехало человек двадцать казаков, крестьяне барыню выдали и приволокли в барский двор. Выпытывая, где у нее схоронены богатства, казаки били ее плетьми.
– Хороша ли она была с вами? – спрашивали пугачевцы крестьян.
– Барин хорош, а она несусветная стерва, – в один голос отвечали мужики.
Помещицу Пополутову снова принялись драть. С особым усердием стегали свою госпожу крестьяне.
Тем временем казаки занялись хозяйственными делами: грузили муку, крупу и прочее добро на подводы, забирали с собой барский скот и лошадей. Крестьянам, справедливости ради, они выдали на каждое тягло по пяти барских овец, малоимущим же еще по лошади и телке.
Поговорив о печальнике народном – о государе, о новой жизни, которую он обещает всем страждущим, и пригласив крестьян вооружаться, скопляться в отряды и следовать к «батюшке» на подмогу, казаки собрались в путь. Крестьяне, в особенности же те, что секли барыню, взмолились к ним:
– Ой, казаченьки, уж вы ее, злодейку-то нашу, взяли бы на свой ответ, а то она оправится, тварюга, всем нам тогда несдобровать.
Казаки барыню пристрелили.
– А как же с девчонками ейными, господа казаки? У нее три маленькие дочери остались.
Рыжебородый хорунжий, посоветовавшись с людьми из отряда, сказал:
– Девочки ни в чем не повинны. Вы их разберите по домам и содержите детские души в совести. А как войдут оные в возраст, выдайте мужикам в замужество.
Во многих селениях, оставленных барами на произвол судьбы, крепостные крестьяне ударились попервости в разгул и в пьянство. Однако более смелые и предприимчивые стали сбиваться в артели и, нагрузив подводы барским хлебом, держали путь к Оренбургу, к самому пресветлому государю. Туда же, рискуя быть перехваченными начальством, следовали, в одиночку и группами, ходоки от работных людей с заводских предприятий, нередко – отдаленных: с Камы и Вятки, из-под Мамадыша и других мест.
3
Время подходило холодное. Ночами держались морозцы. Степные мочажины и речонки подзамерзали, закрайки Яика подернулись зеленоватым молодым ледком.
Пугачевцам становилось туговато. Ютились они в шалашах из веток, в случайных ямах и пещерах, коротали ночи у костров. Пугачев с Харловой жили в киргизской юрте.
Вскоре вся армия перешла на зимние квартиры в Бердскую слободу, или, как ее называли, в Берды, что в шести верстах от Оренбурга.
Пугачеву заранее был приготовлен просторный дом зажиточного казака Ситникова, и назван был тот дом «Государевым дворцом». Полы здесь заново выскоблили, потолки выбелили, стены трех горниц оклеили шпалерами, а стены четвертой горницы, что поболе, вместо шпалер обили шумихой, то есть листками сусального золота; широкую же купеческую печь местный маляр покрыл живописным орнаментом из птиц и цветочков, посадив в середину государственный герб – двуглавого орла. На полу – ковры, у стен – добротная мебель, вывезенная из разграбленных дач Рейнсдорпа и Рычкова. В простенках – два зеркала и портрет великого князя Павла Петровича, добытый атаманом Овчинниковым в имении Тимашева. В переднем углу, в богатых окладах, старозаветные иконы, возле печки – государево знамя.
Емельян Иваныч немало пышному убранству дивился. Золотая горница доставила ему особое удовольствие. Он зачмокал губами, заприщелкивал языком: «Ах, добро, добро». – Кто же здеся постарался-то?
– Мы с сержантом Николаевым, ваше величество, да атаман Овчинников, – ответил Падуров. – А Чика у нас вроде подрядчика – краски добывал, за всем досматривал.
– Благодарствую, – сказал Пугачев и поощрительно похлопал Николаева по плечу: – Старайси, старайси... Вот ишо маленечко поприсмотрюсь к тебе, молодец, да в подполковники и произведу. – Взглянув на портрет Павла, он покивал портрету головой, вздохнул и, прослезившись, молвил: – Поди, забыл ты меня, Павлуша, родителя-то своего. Ох, болит, болит по тебе мое сердце родительское. Эх ты, дитятко рожоное...
В спальне он потрогал кровать под шелковым одеялом, ткнул кулаком в середку взбитых пуховиков – рука увязла по локоть, сказал:
– Бабе спать. А солдату-казаку негоже, да и не свычно. В походах на локотке спать надо, кулак под голову, а высоко – два пальца сбрось, – но, спохватившись, добавил: – Почивали и мы на этих перинках в молодости лет, а вот поотвыкли. – Подмигнув Падурову, громко распорядился: – Пущай Харлова, сирота наша, довольствуется, ей пуховик этот, а я где-нито в боковушке.
Проходя по горенкам, он пристально что-то искал взором и, не найдя, с деланным равнодушием молвил в сторону Падурова:
– Завладела Катерина прародительским престолом моим... Эх, вот сиденьице так сиденьице! Бывало, взойдешь по ступенькам... – и он осекся, вдруг подумав, что, быть может, у престола никаких и ступенек не полагается. Слыхал он не раз, что цари «восходят на престол», а дальше его представление о престоле тонуло в сумерках полного незнания. «Леший его ведает, этот самый престол, – может, к нему лестница приставляется». И, странно, не найдя в бердском «дворце» своем положенного царям трона, он почувствовал скорбное волнение, что чаще и чаще, с течением времени, стало посещать его. Точно и впрямь он когда-то владел несметным царским счастьем и всяческим добром, да впоследствии всего лишился. Видимо, исполнение роли, навязанной ему судьбою, не прошло для Емельяна Ивановича бесследно, как не проходит даром лицедейство и любому актеру, человеческим сознанием которого неприметно овладевает чужая, выдуманная роль.
Помимо того, приняв лик царский, Емельян Иванович на все, что окружало его, не мог не взирать очами своих «подданных», ищущих должного благолепия не только в делах царя, но и в самой обстановке житья-бытья его.
Они стояли в горнице, изукрашенной сусальным золотом. Чья-то услужливая рука зажгла в канделябрах свечи, тихие огоньки отразились в зеркалах, поползли колеблющимся отблеском по золоченым стенам.
– Глянется ли, ваше величество? – спросил Максим Шигаев, ожидая высокой похвалы Пугачева.
Тот, прищурив правый глаз, скользнул взглядом по праздничным лицам казаков и не спеша ответил:
– Хошь и не больно гарно, Максим Григорьич, великому государю в избушке жить, да не в избушке дело, а в вашем, моих верноподданных, усердии. И то сказать: я, господа казаки, в берлоге жить рад-радехонек, лишь бы сирому людству облегченье с того шло. – Помолчав, заметил еще: – Постарайтесь, детушки, чтобы штандарт на крыше был, да красное крыльцо украсьте. А на новоселье такой пир ахнем, чертям будет тошно!.. Казаки оживились, бодали друг друга локтями, широко улыбались.
– А не позвать ли нам, господа атаманы, на наш честной пир губернатора Рейнсдорпа? – вновь прищурив правый глаз, с серьезностью спросил Пугачев.
Казаки фыркнули в бороды. Зарубин-Чика, почесав за ухом, сказал:
– Навряд пойдет. Нешто он благородное обхожденье понимает? Вот разве что Хлопушу за ним пошлем? У Хлопуши с губернатором союз-дружба.
Взрыв дружного хохота покрыл эти слова Чики.
Приближенные Пугачева и те из казаков, что были потолковей да постарше, разместились в Бердах по избам. Рядовые пугачевцы принялись рыть себе землянки, устраивать теплые шалаши, приспосабливать под жилье амбары, сараи да бани, готовить на зиму кизяки, солому да хворост для сугрева.
Коренные жители нашествию пугачевцев попервости обрадовались: настанет время пьяное, богатое, гульливое. В особенности были рады девки с молодыми бабами: уж вот-то попируют...
4
Вскоре по всему Яику, по всем оренбургским просторам выпал первый снег.
Даша, приемная дочь Симонова, коменданта, сидела под оконцем в теплой своей горенке и, проворно работая иголкой, подрубала носовые платки.
Скука... То есть такая скука – плакать хочется. Хоть бы за Устей Кузнецовой спосылать! Даша отложила шитье, сняла наперсток, уставилась взором за окно. Снег валит. И ничего не видно там, за двором, все помутнело, скрылось в падучем снеге. По двору боров бродит, на него от скуки потявкивает старый барбос, две заседланные лошади хрупают у коновязи свежее сено, кучка молодых казаков забилась от снега под навес, что-то врут друг другу, скалят зубы. Стряпуха Маланья пронесла из погреба оловянную миску с квашеной капустой. Над забором пробелела усатая голова всадника в облепленной снегом, словно сахарной, шапке.
Даша ничего этого не замечает: она вся в неотвязных думах. И глаза ее полны слез... Больше месяца прошло, о Митеньке ни слуху ни духу. Да и старик Пустобаев, с которым она отправила Митеньке записку, тоже как сгинул. Что за напасть такая? Неужели этот проклятый Пугач ловит всех честных людей и держит под страхом расправы в своем таборе?
А отчаянная Устя настойчиво подбивает ехать к этому разбойнику: поедем да поедем! Ежели, говорит, твой Митрий еще не повешен, я, говорит, всенепременно вымолю его у государя. Безумная! Она все еще подлого супостата государем почитает.
Скрипнула дверь. Даша вздрогнула, оглянулась. На пороге улыбчивая девушка в короткой шубейке, в накинутой на голову шали козьего пуха.
– Устя! – и Даша бросилась на шею своей подруге.
От юной казачки пахло степными ветрами, первым свежим снегом.
– Вот что, девонька, – сказала Устя, встряхивая шаль и пристукивая подкованными чоботами, как копытцами. Она подошла к окну и села очи в очи с Дашей. – Надумала я в Илецкий городок к тетке пробраться. А оттудова, ежели все тихо-смирно будет, в царское становище метнусь: у меня от Ивана Александровича Творогова пропуск за печатью имеется.
– Ах, Устя! – всплеснула руками Даша. – Неужли ж ты к самому ироду-Пугачу?
– А что такое? – подбоченившись, ответила Устинья. – Я отчаянная, на то и казачка. Да и видеть мне его, царя-то, крайность пришла: Пустобаева старика жалко, ведь он мне двоюродный дед.
– Слыхала я от папеньки, что Пустобаев твой к Пугачу в лапы угодил.
– Об чем и речь. Вот и упаду в ноги надежи-государя да и завою, завою на голос. Разжалобится, отпустит старика, еще, может, гостинцев даст. Он хошь и царь, а слышно, до пригожих баб да девок падок. Эвот толкуют, Стешка Творогова отпустила мужа с царем-то, а сама день и ночь по батюшке-то воет: вот как он приголубил бабу да околдовал, даром что простая казачка. Едем, Даша. Вот установится дорожка, и дуй, не стой.
– Да что ты, что ты, Устя, опомнись!.. На этакую погибель зовешь меня!
– Ах, Дарья, Дарья! Своей погибели не бойся, чужую жизнь береги. Да и чего нам, девкам, подеется? Подумай-ка покрепче о судьбишке горемычного Митрия Павлыча своего. Ежели жив еще, царь вольным молодца сделает... уж мы умолим государя, укланяем!
– Ох, нет, Устя. Да разве папенька отпустит меня? Да и маменька еще не вернувшись из Казани. А без родительского благословения нешто можно в столь опасную экспедицию пускаться?
– Какие они тебе родители! Чужие они тебе. И у меня матушки нет, сиротинки мы с тобой, Даша. Да и то сказать: всякий человек сам о судьбе своей должен пекчись... Ты же Митю любишь.
Даша молча уткнулась разгоревшимся лицом в косынку и завсхлипывала.
Казачка нахмурила брови, сказала с надменностью:
– Из разного теста мы с тобой! Не хочешь – как хочешь. Только знай, девка: ежели я твоего Митрия Павлыча сама вызволю, мой он будет!
– Что ты, что ты! – вскричала Даша. – Да мы же с Митенькой тайно обручены, вот и кольцо у меня в шкатулочке, – она торопливо встала, звякнула ключом комода, вынула червонного золота кольцо, показала его Усте. – Никто об этом не знает, только я с Митенькой, да вот еще ты теперь, третья.
– А я и знать не хочу... Обручены вы, да не венчаны. Эка штука! Да я от него, может, тоже этакое же кольцо имею да супир вдобавок. Клятву тебе даю: не поедешь – мой будет, мой! А ты – рыбица вяленая, вот ты кто.
Лицо Даши исказилось от боли, она заглянула в темные, без проблеска, глаза Устиньи, сердце ее замерло.
– Ты жестокая, жестокая, – заговорила она порывисто. – Я Митеньку люблю, а ты врешь, все врешь на него! Ты нарочно это... Он меня любит, а тебя вовсе и не знает... Ну как, ну как я поеду? – заламывала Даша руки.
– Ладно, не езди, – отрубила казачка. – Пускай, пускай твой Митька, сержант у царя-батюшки, свадьбу с тобой заочно справит... на перекладинке!..
Даша вскрикнула:
– Ой, что ты, что ты!.. – и ничком упала на кровать.
Глава XIII
Зверь-тройка. «Затрясся, барин?!» Просьбица
1
Степь широкая, белая, неоглядная. Бугры, песчаные сопки, кой-где перелесок протемнеет, и снова она, белоснежная. Да вверху, над головою, холодное иссиня-бледное небо. Степь и небо.
По наезженной, утыканной блеклыми вешками дороге легкие санки скользят.
Безлюдно вокруг. Редко-редко казачий разъезд на горизонте промаячит да попадутся встречу оборванцы – нищеброды с кошелями, либо какой-нибудь скуластый беглый мужичок с пугливыми глазами снимет шапку, спросит: «А где, мол, к Ренбурху дорога пролегает?» – «А по какому же случаю тебе в Оренбург занадобилось, дядя?» – «Да так, – ответит он, ковыряя палкой снег, – слых у нас прошел, быдто... это самое... как его...» – и замнется, и глазами влипнет в землю.
Глухо в степи. Хоть бы ветер поднялся, хоть бы вьюга завыла свою песню... Нет, тишь и глушь в степи. Лишь с заячьими петлями, с волчьими следами убродные снега белеют, отливая синью, да из простора в простор легкие саночки скользят.
Однако пара лошаденок притомилась, путь они пробежали длинный; у коренника обвисла нижняя губа, пристяжка хитрит, держит постромки вслабую.
Сзади кто-то настигает, седоки-девушки оглядываются: скачут четыре казака и, помахивая плетками, дико орут:
– Дорогу, дорогу государю!
И санки только лишь успели своротить с дороги, как невдалеке показалась тройка борзых коней. На задке расписных саней – ковер, под ногами седоков – ковер, на облучке – Ермилка, кудреватый чуб его стелется по ветру.
– Стой, Ермил! – крикнул Пугачев, и, как вкопанная, тройка стала. – Эге! – сказал Емельян Иванович, всматриваясь в девушек. – Да никак знакомая? Ну, так и есть... Устинья, ты?
– Я, царь-батюшка! – звонко и радостно прокричала из санок Устя и, как бы готовясь к поцелую, отерла рукой губы.
Рядом с Пугачевым, форсисто выставив на волю ногу в валенке, сидел черномазый, горбоносый Чика-Зарубин.
– Беги-ка проворней, Чика, сядь с тою, с другой, а Устю – ко мне.
– Разом, батюшка, – крикнул Чика и поспешил к девичьим саням.
– Здорово, Устинья Петровна, – приподнял он шапку с черноволосой головы. – А это ж кто такая? Ой, да никак Дарья Кузьминишна.
– Молчи, Зарубин, – сказала Устя и моргнула Чике бровью. – Это дочка нашего нового дьячка. Так я и надеже-государю буду сказывать. И ты этак же говори.
– Да как же насмелюсь я батюшку обманывать? – возмутился Чика. – Как мне врать, ежели она дочерь нашего коменданта?
– А ты ври, да знай: вреда с того батюшке не будет, а безвинной девушке – польза!
Тройке не стоялось. Рослые гнедые трясли головами, норовили укусить друг друга за морды, всхрапывали, бешеным глазом косились по сторонам, по-озорному били копытом в снег.
– Ну, здравствуй, Устинья, – приветливо сказал Пугачев, ожидая, что казачка встанет на колени и земно поклонится ему.
– Будь здоров, надежа-государь, – ответила девушка. Едва кивнув головой, она без приглашенья залезла в ковровые сани и, как ни в чем не бывало, уселась рядом с государем.
«Гордячка», – снова как и там, в Илецком городке, на плясах, подумал Пугачев про Устинью и крикнул ямщику:
– Пошел, пошел, молодец!
Бесшабашный Ермилка привстал, причмокнул, тряхнул вожжами:
– Эх, кони чужие, хомут не свой, погоняй, не стой!
И, закусив удила, ринулась, понесла зверь-тройка.
У казачки захватило дух. Поймав ухом веселую присказку Ермилки, она спросила Пугачева:
– Чьи же это кони-то, батюшка?
– Государственные, – с ухмылкою ответил Емельян Иванович. – Повелел я взять их из конюшни моего губернатора Рейнсдорпа... Царским своим именем! Чуешь? А вот ужо приспеет пора-времечко – на самом Рейнсдорпе воду прикажу возить... Ха-ха!.. – и он громко рассмеялся. На нем надет был старый из овчин тулуп и замызганная, как у пропойцы, шапчонка. Заметив, что казачка с откровенной насмешливостью смотрит на его плохой наряд, он сказал: – А это я, девушка, нарошно в чужую шкурку-то обрядился, чтоб не узнавали, чтоб лиха какого в дороге не стряслось, ведь Рейнсдорп-то тоже, поди, не дремлет. А я в этом обмундировании под самые городские ворота к нему подъезжал. – Пугачев сбросил с левого плеча тулуп, обнял девушку за талию и, сказав: «Эх, личико твое румяно!» – чмокнул ее в холодную розовую щеку.
Устя не сопротивлялась: у нее на уме такое дело, что хочешь не хочешь, а угождать батюшке надо. Ой, ой, какая у него теплая да сильная ручища, аж ребрушки взныли...
– А по какому же делу, красавица, едешь ты и к кому?
– Да к кому же боле-то?.. К тебе, свет наш, к вашей царской милости.
– Ах, вот как! Гарно, гарно, – и, скосив черные, навыкате, глаза, Пугачев еще крепче прижал ее к себе.
Кругом глубокие заструги снега – степной ветер в прошлую ночь похозяйничал на славу. Снег, снег да синее небо над головою! Не забыть Усте никогда этой гонки во весь дух, плечо в плечо с чернобородым царем-батюшкой.
В Бердах снегу тоже немалые сугробы. Пугачевские крестьяне да казаки, покряхтывая, переговариваясь, разгребали снежные заносы перед государевым двором. На крутой, одетой железом крыше полощется под ветерком императорский штандарт – большой желтый флаг с черным орлом в средине. Орла намалевал, как умел, сержант Дмитрий Николаев.
Он и сейчас сидит под окнами в нижнем этаже, в отведенной ему горенке государевых палат, и трудолюбиво срисовывает с медной монеты большого орла. Надо сделать на картоне три таких рисунка, выстричь, раскрасить суриком и приклеить к золоченым стенам в верхнем этаже. Государю будет это приятно.
Молодой сержант постепенно входил в новый, непривычный быт и, главное, в житейские интересы пугачевцев. Душевный разлад день ото дня ослабевал. Перед глазами поистине совершалась сказка: армия Пугачева росла, на клич самозванца устремлялся со всех сторон народ, а среди простого люда были и такие, как Падуров. Один за другим передаются они в лагерь Пугачева и во всеуслышание провозглашают чернобородого бродягу своим истинным царем. Это ли не диво!
Из разговора с Падуровым, из манифестов и указов, что сочиняли они вместе, наконец, из поведенья самого «батюшки» сержант Николаев начинал угадывать, что над всей той дерзкой заварухой веет вещий дух вольной вольности, что народ сбегается к самозванцу не зря и не только для разгула, грабежа да пьянства, как раньше думал Николаев. Нет, люди искали в лагере мятежника правды и возмездия врагам своим.
Понимать-то Николаев это понимал, однако... он хоть и бедный, да все же дворянин. Нет, стыдно, стыдно ему идти против присяги государыне, против издревле существующих на Руси порядков. Раб есть раб, господин есть господин – так уж самой природой установлено: уши человека не растут выше головы, и негоже рабу быть выше господина.
И вот снова качаются его мысли вправо-влево, как маятник, и так нехорошо, и этак плохо. И уж он сам себе не мил – слюнтяй какой-то!..
А все же таки Пугачев по сердцу Николаеву. Люб ему простой этот человек. Не царский сан, человека любит в нем сержант. Так думал Николаев, подмалевывая картинного орла. Потом его мысли, как фонарь в ночи, повернули к родному Яицкому городку. «Даша, Дашенька...»
Густым наплывом охватили его милые, неповторимые воспоминания. Тихие вечера над Яиком, соловьиные трели-посвисты в кустах прибрежных, бледные звезды в небе. Плывет, плывет счастливая лодочка, а в ней – счастливых двое. «Митенька, – едва слышно говорит она, – ну до чего же, Митенька, сладко соловьи поют». А у самой в глазах такой восторг, и вся она полна такою нежной и чистой страстью, что Митенька, забыв себя, и ночь, и звезды, вдруг оказался, как орех в скорлупе, в некоем ограниченном и тесном мире: все кругом исчезло, весь мир замкнулся в Дашеньке. Вот она, в белом, с пышными оборками, платье, с васильковым венком на голове... Он бросил на дно закачавшейся лодки мокрое весло, встал перед Дашей на колени, а она, с удивившей молодца смелостью, стала целовать его в губы, в лоб, в глаза. Целует, а сама вздыхает да нашептывает: «Ой, грех... ой, грех, Митенька...»
Вспоминая все это, такое недавнее и далекое, такое милое и несбыточное, сержант Николаев судорожно передернул плечами, будто собирался всхлипнуть. Но он удержался от слез.
– Митрий Павлыч, – услышал он над собой знакомый голос.
Это яицкий казак Кузьма Фофанов. Жил казак здесь, вместе с Николаевым, в подизбице, исполняя обязанности дворецкого, был хранителем «военной добычи» государя, а когда стряпуха Ненила напивалась, то и царским поваром.
– Митрий Павлыч, тебя полковник Лысов кличет.
– Митька Лысов? – переспросил сержант. – Чего ему нужно от меня? – Он надел шапку, татарский азям из армячины и вышел на воздух.
Он не любил и побаивался этого нахального и злого Лысова. Особенно же после случая с письмом Дашеньки. Он знал, что полковник злобствует на него и каждому внушает, что вот, мол, он, жидконогий сержант-дворянчик, сумел подлизаться к государю и оттирает от «батюшки» верных слуг – простых казаков... И уже иные, ради наветов Лысова, стали коситься на сержанта.
На открытом крыльце с точеными перилами и дальше, в сенцах, толпились отборные яицкие казаки – государев конвой. Кое-кто из них сметал с лестницы лузгу подсолнечных семечек, другие смазывали ворванью сапоги или, сняв шапку, расчесывали кудри медным гребнем; четверо, примостившись на приступках, дулись в карты.
Позвякивая заливчатым колокольчиком и бубенцами, зверь-тройка врезалась в дремотную слободу Берды. Караульный забрякал в колотушку, его песик о трех лапах сипло залаял.
– Государь, государь! – взголосили подскакавшие ко дворцу казаки.
И все вдруг засуетились. Забил барабан, почетный караул рослых молодцов – сабли наголо – выстроился снизу вверх по обе стороны лестницы, на крыльцо выбежал в новом чекмене дежурный Давилин, выскочили, как угорелые, две девки – Ненила и татарка, подхватили батюшку под локотки.
Пугачев на ходу приказал:
– Покличьте-ка начальника артиллерии Чумакова. Пущай внизу подождет, в приемной!
Он велел Нениле провести Устю в заднюю горницу, а когда подъедет с Чикой другая девушка, так и ее туда же.
– Я не замедлю, – сказал он Устинье Кузнецовой. – В тую минутку и доложишь мне о делишках своих.
Вскоре прибыла Даша в сопровождении Зарубина-Чики. Он сказал:
– Ты, Устинья, говори государю всю правду, не любит он, когда врут. Ждите. А я Митрия Павлыча поищу, он, сказывали, ушел кудай-то.
Возвратился Пугачев. Он в новом недлинном кафтане из тонкого сукна, в голубой шелковой рубахе с высоким воротом, в широких шароварах и желтого цвета козловых сапогах. В его руке белый узелок с пряниками, орехами, сахарными леденцами. Он положил узелок на ломберный стол, накрытый вязаной скатертью, сказал:
– Отведайте-ка сладенького.
Девушки взяли по мятному прянику в виде рыбки, сели на стулья. Пугачев уселся на сундук, покрытый мохнатым ковром. Он не сразу оторвал свой ожигающий взор от красивого лица Устиньи. Статная, не по летам дородная казачка сидела прямо, грудь вперед, не сутулясь, как Даша, и перебирала концами пальцев, будто играя, тугую, перекинутую через плечо золотистого цвета косу. С задорным бесстрашием и любопытством смотрела она, не мигая, в лицо государя.