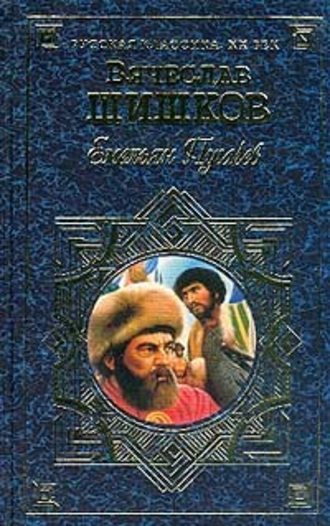
Вячеслав Шишков
Емельян Пугачев, т.1
– Ладно, господа казаки... Я, как-нито, смахаю на Яик лично, рыбы мне надобно трохи-трохи купить да икры. Там разведаю, чем дышите. И вы уж не оставьте меня, буде нуждица придет насчет... рыбы-то.
В церковке зазвонили к повечерию. Игумен Филарет с казаками пошли молиться. Пугачев улегся спать.
За трое суток, проведенных в скиту, Пугачев отъелся, подобрел лицом, впалые щеки его закраснелись. Снова ходила в нем силища. Он целыми днями сидел в бездействии на печке, с интересом слушал, что говорит ему старец Филарет, но у того целая охапка всяких дел, придет, потолкует и надолго скроется. Впрочем, Пугачев рад побыть и в одиночестве. Все сильней, все настойчивей его обольщала мысль пробраться на Яик, уговорить казаков идти всем войском в Туретчину – только пускай выберут его, Пугачева, атаманом. А что же, и выберут. Чем он не вышел? А уж ему ли не суметь войску угодить – он человек бывалый, всяческих генералов несчетное число перевидал. Эх, и зажил бы Емельян Иваныч Пугачев. Семью перевез бы к себе, в каменных палатах обитали бы...
Мерещилась его живому воображению и другая ослепляющая возможность, но он, с решимостью и ничуть не сожалея, гнал ее прочь как колдовское наваждение.
Игумен Филарет проводил его до Мечетной слободы.
Глава IX
Заграничный купец. «Как во городе было во Казани»
1
В Сызранской степи, на берегу речки Таловой, от Яицкого городка в шестидесяти, от Иргиза в семидесяти верстах, находился так называемый Таловый умет, или постоялый двор.
Покосившаяся, в шесть окон, изба, большой сарай, две амбарушки, баня да кой-как крытый пригон для лошадей. На высоком шесте, прибитом к воротам, укреплено старое колесо и болтается на бечевке клок сена – самодельная вывеска: заезжайте, мол, обогреться и коней покормить.
Лохматый, сидящий на привязи барбос выставил из катуха седую от мороза башку и сипло залаял в степь. И сразу со всех сторон набежала с дурашливым лаем целая свора шавок.
Низкорослый хозяин Талового умета Оболяев с пегой бороденкой и добрыми обморщиненными глазами цыкнул на собак и закричал пришлой беглянке-бабе, рубившей колуном дрова:
– Старуха, слышь, едуть, еремина курица! Затопляй скорей печку.
Подводы, одна с мешками муки, другая с двумя седоками, остановились у ворот. Пугачев, не торопясь, выпростался из саней. Он – в овчинном новом тулупе, в валенках, в заячьей белой шапке-сибирке, в огромных собачьих рукавицах. Старик, хозяин лошадей Филиппов, выпряг их, повел в хлев отстояться.
– Будь здоров! – поприветствовал Пугачев Оболяева и прошел с ним в избу. – Сколько до Яицкого городка считаете?
– Шестьдесят верстов, еремина курица... А твоя милость – какой человек, откудов и куда путь держишь?
– Я заграничный, купец, на Яик за рыбой еду... А тебя как звать? Живал ли ты в Яицком городке?
– Я пахотный солдат Оболяев Степан, а прозвищем – Еремина Курица. Я сам-то из мужиков Симбирского уезда, а сызмальства в Яицком городке в работниках трепался у богатых казаков, у самого атамана, еремина курица, царство ему небесное, Петра Тамбовцева работал. Мне все казачество, еремина курица, знакомо. Да и ныне вот то один, то другой наезжают ко мне, в умет, потужить да покалякать... Мне вся их подноготная ведома.
– Погано живут?
– У-у-у, не приведи Господь... – затряс головой Еремина Курица и шумно отсморкнулся на земляной пол. – В тоске живут.
Пугачев выпил одним духом ковш квасу, крякнул, спросил, вытирая усы:
– А не поедут ли люди на Кубань со мною, к некрасовцам? Как полагаешь?
– Да чего полагать! Знамо, еремина курица, поедут... Ежели, твоя милость, желаешь, близехонько тут два казака живут, в землянке, два брата Закладновы, они гулебщики[72], лисиц приехали имать.
– Не можно ли спосылать за ними? Мол, у проезжающего нуждица до них есть.
Вскоре после трапезы в избу вошли два рослых казака, братья Закладновы.
– Кто нас требует? – спросил Григорий Закладнов.
– Я, – ответил Пугачев. Покосившись на бабу у печки, он сказал: – Выйдемте-ка, потолковать треба.
Оба брата Закладновы, Еремина Курица и Пугачев подошли к сараю. Пугачев тихо заговорил:
– Вот, господа казаки, скажите-ка, не утаивая, что у вас там, какие разорения, какие обиды от старшин?
Братья Закладновы, переглядываясь друг с другом и с Ереминой Курицей, пересказали Пугачеву, что творится сей день в войске Яицком.
– Многих под караул берут, многих сыскивают, – говорил Григорий Закладнов, всматриваясь в хмурое лицо Пугачева. – Слых идет, в Оренбурге двенадцать наших к четвертованию приговорены, сорок семь – к повешению, да трое – к отсечению голов...
– Не слых идет, а доподлинная правда, – перебил брата молодой парень Ефрем Закладнов. – Самолично я объявление читал. Следственная комиссия этак постановила от семнадцатого сентября сего года. В Питер увезли постановленье-то на подпись всемилостивой государыне.
– А-я-яй, а-я-яй, – причмокивая, качал головой Пугачев. – Надо, господа казаки, как-нито выкручиваться из беды, а нет – всех вас переимают. Я бы вас мог на Кубань свести, к некрасовцам, на реку Лобу. А там отдались бы в подданство турецкому султану. Нам бы только границу проскочить, там у меня товару на двести тысяч рублев, на первое время я все войско коштовать бы стал. Да и турецкий паша нас встретит, ведь он мне знаком, он хоть пять миллионов нам выдаст, только знай живи...
– А кто таков ты сам-то? – с недоверчивостью в голосе спросил Пугачева оробевший Григорий Закладнов.
– А сам я – заграничный купец Емельян Федоров, раскольник. Меня за раскол царские чиновники шпыняют, едва в тюрьму не угодил. Мне такожде треба куда-то укрыться. Только вы, господа казаки, о нашей беседе – молчок, чтобы шито-крыто!
Братья Закладновы повеселели. Григорий даже перекрестился.
– Дай-то, Господи! Мы пошли бы все с тобой... Еремка! Тащи-ка господину купцу лисичку в подарочек...
– Благодарствую, не надо, – сказал Пугачев. – Стало быть, я в Яицком городке лично буду. А вот казак Денис Пьянов либо Толкачев дома? Старец Филарет балакал мне о них.
2
Вечером 22 ноября 1772 года Пугачев со своим спутником, крестьянином Филипповым, въехав на двух подводах в Яицкий городок, направились сквозь сизые с морозцем сумерки прямо во двор раскольника Дениса Пьянова, отставного казака.
– Принимаешь ли, старичок, гостей? От всечестного игумена Филарета поклон тебе привез, – прекрестясь на иконы двуперстием, сказал хозяину Пугачев.
– Мы добрым гостям завсегда радехоньки. А кои по благословенью отца Филарета жалуют, рады наособицу, – приветливо ответил седобородый, румяный крепыш-хозяин.
За ужином пили вино, вели беседу все о том же самом. Хозяин толковал, что народ в городке живет в отчаянье и великом унынии, казаки ждут расправы.
После ужина завалились спать: Пугачев с хозяином на печке, крестьянин Филиппов на полу. Жена Пьянова – Аграфена – с дочкой ушли в другую половину. Когда Филиппов захрапел, хозяин Денис Пьянов толкнул Пугачева в бок и зашептал:
– Гостенек, слышь-ка... Спишь? Молва ходит, будто в Царицыне воровской человек объявился, государем Петром Федорычем себя назвал. Да Бог знает, ныне слуху нет о нем. Иные баили, что скрылся он, иные – что засекли его насмерть... А ты ничего в дороге-то не расчухал про это самое?
Сердце Пугачева замерло. В хмельную голову бросилась кровь. Он ответил казаку:
– Не воровской человек выдал себя за царя, а сам царь объявился в Царицыне, сам Петр Федорыч. Правда, в Царицыне его схватили, только он ушел, а замест его замучили другого, чтоб следы скрыть.
Пьянов широко открыл глаза, стараясь рассмотреть чрез тьму лицо гостя.
– Не может тому статься, гостенек, – сбираясь с мыслями, возразил он Пугачеву. – Ведь государь наш Петр Федорыч умер в Питере.
– Неправда твоя, – убежденно сказал Пугачев и приподнялся на локте. – Государь был спасен от лютой смерти в Питенбурхе, такожде и в Царицыне.
– Навряд ли, – усомнился Пьянов.
Пугачев ничего не ответил. Он в душе выругал себя, что малознакомому человеку наболтал какую-то несуразицу, в которую и сам не верил. А все винцо... Помедля, он перевел разговор прямо к своей заветной цели, исполнение которой казалось ему вполне возможным.
– И как это вы, вольные казаки, терпите толикое утеснение в привилегиях своих. Где же отвага ваша? Бабы вы... (Пьянов вздыхал, почесывался, обороняясь от наседавших на него тараканов и клопов.) А я бы провел вас в Туретчину, на Лобу на реку...
– Мы бы рады-радехоньки пойти с вами, – зашептал Пьянов, закрещивая широкий позевок, – да только как же пройдем татарские орды? Да и люди мы все бедные...
– Орда нам рада будет. А на выход я подарю в каждую семью по двенадцати рублев.
– Да что ты за человек?! – с изумлением негромко воскликнул Пьянов. – И откудова у тебя эстолько денег?
Тогда Пугачев вновь начал рассказывать затверженную им басню о том, что он заграничный торговый человек, и о своих оставленных на границе богатствах: парча, ковры, халаты, сапоги – все это он накупил в Египте да в Персии, а по чумному времени товары в Россию ввезти не мог.
У хозяина от этих речей набеглого гостя кружилась голова. Поелозив по печке задом, он придвинулся к гостю вплотную и, волнуясь, сказал:
– Статочное ли это дело... Ведь такой уймы денег ни у кого нет, ни у единого купца... Разве что у государя...
Пугачева как подбросило. Он сел, свесил ноги с печки и, ударяя себя в грудь, произнес:
– Я и есть государь Петр Федорыч. В Царицыне-то Бог да добрые люди сохранили меня. А замест меня засекли солдата караульного.
Вскочил и Пьянов, тоже свесил ноги, вытаращил на Пугачева глаза. А тот, опамятовавшись, испугался своих слов, схватился за голову, громко окликнул храпевшего на полу Филиппова:
– Эй, Семен, Семен, Филиппов!
– Чего гайкаешь? – не вдруг отозвался крестьянин.
– Ты ничего не слыхал?
– Нет, я спал крепко. А чего такое?
– Мне попритчилось, – сказал Пугачев, облегченно передохнув, – быдто в окно кто сбрякал.
– Спьяну тебе, должно, – недружелюбно ответил Филиппов, косясь на смутно маячившую фигуру Пугачева: в замерзшие окна скупо вплывал лунный свет.
Взволнованный Денис Пьянов, дрожа и постукивая зубами, слез с печки, накинул на плечи татарский бешмет и вышел очухаться на улицу. Следом за ним выбрался и Пугачев. Сели рядом на крыльцо, многодумно молчали.
У оставшегося в избе старика Филиппова защемило сердце: он сквозь сон слышал разбудивший его выкрик Пугачева: «Я не купец, а я государь Петр Федорыч». Господи помилуй, Господи помилуй... Как же быть? Ведь влопаешься через знакомство с таким оголтелым... Господи помилуй!..
– Как же тебя Бог сохранил? И где же ты, свет наш, целые десять лет скитался? – тихо заговорил Пьянов. Он верил и не верил словам своего подвыпившего гостя.
– А со мной милостью Божию так стряслось: прибежала ко мне во дворец гвардия, графы, князья и взяли меня под караул, да, спасибо, капитан Маслов отпустил меня. Я принял на себя зрак простого человека и скрывался в Польше да в Цареграде... В Египте был, у фараонов... (Пугачев шевелил бровями, напрягая мысль, про какую бы страну еще сказать.) В Персии был, в Пруссии. А оттудов прямо к вам, на Яик...
Пьянов встал и, плохо еще владея мыслями и чувствами, низко поклонился Пугачеву.
– Хорошо, батюшка. Я перемолвлюсь со стариками насчет Туретчины-то. Что скажут, перескажу тебе.
– Токмо, чур, Денис Иваныч, балакай с людьми по выбору, не всякому о сей тайне ляпай, – внушительно погрозил Пугачев пальцем.
Звезды на небе – крупные и яркие. Лобастый с перламутровым отливом месяц катился книзу. На голубоватой церкви блестел в голубом сияньи восьмиконечный крест. Не стукнет, не брякнет, всюду холодная предутренняя тишина. Мороз важно продрал рассолодевшего на жаркой печке Пугачева. Он зябко передернул плечами, мысль его прояснилась, он понял наконец, на какую погибель обрекает себя этим ночным разговором с Денисом Пьяновым. В его душе встал страх. «К черту, к черту. Отрекусь от слов. На попятный сыграю», – стискивая зубы, подумал Емельян.
– Вот что, Денис Иваныч, – мужественным голосом с решимостью начал он. – Я тебе молвил, быдто я истинный царь Петр Федорыч... Чуешь? Ну дак... – сказал он и вдруг запнулся. Ослепляющая мысль, которую он все время гнал от себя прочь, снова навязчиво встала перед ним во всей своей силе. А в крови его продолжал еще хмель гулять – вино за ужином было крепкое. Пугачев весь, от головы до пят, как-то покоробился, вздернул плечом: «Эх, была не была. Назвался груздем, полезай в кузов». – Слышь, старик, не всякому, мол, сказывай-то... А я вдругорядь молвлю тебе: я есмь всамделишный царь!..
Огибая церковную ограду, двигался с дозором разъезд солдат. Кони пофыркивали и храпели, легкий парок подымался от их разгоряченных в беге тел. Сидящие на крыльце, пригнувшись, шмыгнули в избу.
Пугачев прожил в Яицком городке у казака Пьянова целую неделю. Пьянов, улуча момент, как-то вышептывал ему:
– Вот, ваше величество, баял я о вас старикам нашим казакам про усердие ваше в Туретчину нас вести, на Кубань. Они пришли в радость и говорят: это, мол, дело великое, надо со всеми, мол, казаками перетолковать, вот когда они соберутся всем гамузом на багренье, тогда уж...
– А что я царь есть, про сие сказывал?
– Явственно объяснить пострашился, вашество, а обиняком давал намек.
– А они что? – Пугачев перестал дышать.
Денис Пьянов, заикаясь, вымолвил:
– В сумнительство пришли.
Пугачев нахмурился, крякнул.
С утра до вечера он стал пропадать на базарах: приглядывался к народу, жадно внимал, не говорят ли что о тайно проживающем в Яицком городке Петре Федоровиче III. Но ни звука об этом в народе не услышал, и не знал Пугачев, радоваться ему по сему случаю или сожалеть.
Он купил себе пестрядины на рубаху да полтора пуда сазанов, а мужик Семен Филиппов навьючил два воза рыбы, и оба путника направились обратно.
19 декабря, по навету крестьянина-предателя Семена Филиппова, Пугачев был в Малыковке сыскан, схвачен стражей и представлен к «управительским делам». На допросе сознался, что он беглый донской казак Зимовейской станицы, а ежели на него от Семена Филиппова такой поклеп был, то, верно, он с пьяных глаз советовал казакам бежать на Кубань, а сам никакого намеренья не имел и в разговоре с Пьяновым царем себя не величал.
Его заковали в кандалы и направили сначала в Симбирск, далее – в Казань.
В степях поднялась несусветная метелица, пришлось задержаться на постоялом дворе в Сызрани два дня. Войдя в избу, Пугачев жаловался, что ознобил ногу, просил стащить с него сапоги. Когда разували, из сапога выпало пять столбиков золотых и серебряных денег, завернутых в бумагу наподобие трубочек. Пугачев развернул одну из них, вынул оттуда червонный в два рубля пятьдесят копеек, велел купить на четвертак вина. Эти деньги дал ему игумен Филарет.
– На мне был «через» (пояс) с серебряными деньгами, да в гаманце[73] рублей с тридцать, да рубашка стеганая дорожная, в ней зашито было сорок два рубля. Да, видишь, в Малыковке обобрали меня всего, повытчик обобрал. Ну да Бог с ним. Дай Господи жить ему с моими деньгами.
За обедом Пугачев с двумя сопровождавшими его крестьянами, Шмоткиным и Поповым, хорошо выпили. Пугачев дал Шмоткину, якобы на сохранение, несколько червонцев.
Спустя два дня, когда улеглась метель, стали садиться в сани. Шмоткин отозвал Попова в сторону, показал ему десять золотых.
– Наш Емельян-то хочет от нас уйти... Как ты думаешь, не прижать ли мне червонцы-то?
– Боюсь... Пропадай он с ними. Верни деньги-то ему, – отсоветовал Попов. – Да смотри, брат, ухо-то держи востро. Не давай ему вожжей в руки. Эвот он какой черт. А глазищи-то – страсть! Давечь пьяный зыркнул на меня, я чуть не обмер.
– Благо ты сказал мне, я теперя и сам с саней не сойду, да и рогатину из рук не выпущу.
Скованного в кандалы Пугачева, опаски ради, стали прикручивать к саням цепью.
– Чего вы, ребята, делаете, – укоряюще заговорил Пугачев. – Эх, братцы, братцы. Ведь в Цареграде хранится неисчислимое множество денег моих. Ведь я купец, с заграницей торг водил. Не присугласитесь ли вы, братцы, довезти меня до Стародуба-то? Сотворите милость, постарайтесь. Коли Бог принесет подобро-поздорову в Стародуб, я невесть как награжу вас, золотом засыплю до макушки.
– Нет, Емельян Иваныч, – возразил Попов. – Мне своя голова дороже всякого богатства.
В Казань Пугачев был доставлен 4 января 1773 года.
При допросе он был раздет. Его спину протерли круто посоленной водой, на коже выступили темные полосы. Тогда ему задали вопрос: кнутом или плетью наказывали его и по какому поводу бежал он в Польшу? Пугачев показал то же, что и в Малыковке, добавив:
– Ни кнутом, ни плетью я наказан не был. А сек меня на Прусской войне полковник Денисов – я его лошадь упустил.
По приказу казанского губернатора фон Бранта Пугачев был посажен в так называемые «черные тюрьмы», что в подвалах старой полуразрушенной губернской канцелярии, в Кремле.
Вслед за арестом Пугачева сыск направился схватить и Дениса Пьянова. Но тот сумел бесследно скрыться.
3
В тюрьме Пугачев повел себя по-умному. Он, как и прежде, стал выдавать себя за раскольника, всем говорил, что вины на нем никакой нет и страждет он по поклепному делу за «крест в бороду». По ночам, когда большинство арестантов спит, он раскидывал выданный ему рваный полушубок, становился на него, чтоб не застыли ноги, и, гремя кандалами, начинал усерднейше, с коленопреклонением, молиться. Такую комедию он проделывал часто. И по всей тюрьме разнеслась о нем слава, как о человеке набожном, благочестивом. Караульные солдаты стали относиться к нему с сочувствием и жалостью. Все называли его Емельяном Иванычем. Особливо начали отличать его зажиточные раскольники города Казани, приносившие в тюрьму душеспасительные подаянья заключенным. Пугачеву всегда перепадало больше всех, но он, по святости своей, самые сладкие куски раздавал караульным солдатам и товарищам. Словом, смиренный Пугачев был тих, скоропослушен и при этом всегда задумчив. Случайно узнав от раскольников, что в Казань заказывать иконы прибыл игумен Филарет, Пугачев взмолился:
– Ой, да скажите вы ему... Ой, да пусть похлопочет об освобожденьи моем.
У Филарета не было крепкой руки среди администрации, а как он торопился ехать обратно на Иргиз, то оставил приятелю своему, купцу Щолокову, письмо с горячей просьбой выручить раскольника Емельяна Пугачева из узилища кромешного. Сам же Щолоков был в это время по торговым делам в Москве.
Филарет уехал. Щолоков не приезжал, Пугачев продолжал томиться в неизвестности несколько недель. За это время он хорошо спознался с колодником Парфеном Дружининым, купцом пригорода Алата Казанской губернии. Купцу сорок восемь лет, лицом тощ, борода козлиная, погасшие глаза ввалились.
– А сижу я здесь давно, – покашливая, жаловался Дружинин. – У меня в пригороде свой домик, жена да трое ребят. Купцы выбрали меня целовальником – казенной солью торговать в селе Сретенском. Год времени спустя сделали мне учет, в соли нехватка вышла семи тысяч пудов. За сие дело стражду.
– Вижу, улепетывать отсель надо, Парфен Петрович, – и Пугачев подмигнул купцу.
– Добро бы... Да как? Способов нетути. Солдат на штык подденет.
– Примыслить надобно. На-а-айдем способа.
Застучали запоры, заскрипела железная дверь, в тюрьму вошел низенький, присадистый, седобородый человек в лисьем кафтане. У сопровождавшего его мальчика за плечами на веревке связка больших пшеничных калачей. Присмотревшись к подвальной промозглой мгле, старик спросил:
– А где тут донской казак Емельян Иванов?
– Я самый, – и Пугачев, гремя цепями, поднялся. – Ой, да уж не ваша ли милость Василий Федорыч Щолоков?
– Как есть перед тобой, – ответил купец. – Васютка, сбрось-ка несчастненькому два калачика.
Пугачев, смущенно помигивая и глядя с кротостью в ясные глаза Щолокова, проговорил:
– Распречестной игумен Филарет приказывал вашей милости кланяться нижайше и попросить вас, чтоб вы обо мне, бедном, постарались пред губернатором.
– За что сидишь?
– По поклепному делу за «крест и бороду».
– Добро, миленький. Я и до губернатора схожу, мы с ним хлеб-соль водим, до секретаря схожу.
– Постарайтесь, Бога для! – посунувшись к купцу, шепотом заговорил Пугачев. – Да посулите губернатору-то сто рублев, а то и поболе. И секретарю, у которого дело мое, такожде суньте хоша рублев с двадцать. На взятку господишки-то падки. А денег у меня много, на хранение у отца Филарета оставил я, – врал Пугачев.
Щолоков подарил Пугачеву рубль и чрез несколько дней пошел к секретарю Абрамову с просьбой, что «ежели дело колодника Емельки не велико и не противно законам, то не притесняйте его, за что вам старец Филарет служить будет».
Вскоре Пугачеву повезло, должно быть, раскольник Щолоков помог. По определению губернатора в марте 1773 года с него сняли тяжелые кандалы и только на ноги положили легкие железа. За благочестие, послушание и кротость Пугачева часто отпускали с прочими колодниками в город на работу, он широко этим пользовался, ходил по Арскому полю, пытливо изучал расположение Казани, по-умному заводил случайные знакомства, ласковой шуткой и подачкой приручил к себе хмурых конвойных солдат. Словом, все шло как по маслу, надежда на побег возрастала у него.







