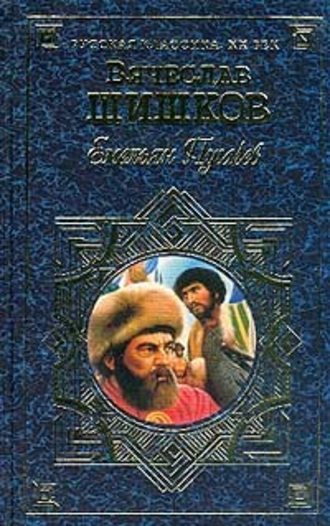
Вячеслав Шишков
Емельян Пугачев, т.1
4
Наступило 15 сентября. Вечер был темный, лишь у Варварских ворот поблескивали, блуждали огоньки.
Герасим Степанов высунулся из оконца своей кельи. На Спасской башне пробило девять. Толпа стала редеть. Хрипели истомленные попы с дьячками, нестройно, устало подвывали богомольцы. Слонялись дурочки, юродивые, вещала над аркой Марфуша-пророчица. Пучеглазый парень в беспоясой рубахе лазил вверх и вниз по лестнице, гасил и зажигал свечи. В набитые доверху сундуки звякали на «мирскую свечу» деньги. Казна окарауливалась небольшим отрядом богомольцев, вооруженных кольями, ножами, гирьками на веревках.
Герасим, прищурившись, с высоты своего оконца вдруг увидел: вынырнув из тьмы, к сундукам быстро подошли семеро бравых солдат-гвардейцев, с ними унтер-офицер и двое консисторских подьячих с сургучом и печатью. Молебны у десяти аналоев, расставленных на приличном расстоянии друг от друга, сразу прекратились; все взоры повернулись к сундукам; стало тихо и тревожно.
Подьячие, приблизясь к страже из богомольцев, твердо сказали:
– Владыкой Амвросием повелено казну в сундуках опечатать, дабы она...
В толпе кто-то заорал: «Бей подьячих!» – и вооруженные чем попало люди оравой бросились к бравым солдатам, смяли их, отняли ружья. Солдаты, едва вырвавшись из рук бунтовщиков, обнажили тесаки, стали защищаться. Опрокинутые подьячие, дрожа от страха и заикаясь, вопили: «Мы повелением владыки Амвросия сие творим, помилуйте!» Завязалась свалка.
В соседней церкви ударили в набат, при рогаточных караулах на улицах – бой трещоток. А следом зазвонили в колокола и в других церквах и на Спасской башне.
Вскоре страшным сплошным звоном всколыхнулась вся тьма Москвы от края и до края. Где-то пушка глухо ухнула, либо ударил далекий громовой раскат.
– Братцы, набат, набат... Чу, пушка! – Народ еще больше распалялся. – Зачинай, братцы, зачинай!..
Вмиг сундуки были опрокинуты, толпа, смяв духовенство, повалив аналои, набросилась на деньги, снова закипела отъявленная ругань, дикий крик и кровопролитье.
Образ боголюбской Богородицы, пред которым только что проливались слезы, всеми сразу был забыт, он оказался никому не нужным, сотни свечей пред ним, догорая, гасли, жалко падали на дорогу. Вся площадь громыхала гвалтом, воплями, неистовыми криками: «Караул, караул! Грабят... Бей их, бей начальство, дави толстосумов! Смерть Амвросию! Карантены, карантены! Жги! В Кремль, братцы, в Кремль!»
А сполох во всех церквах гудел, гудел. Всюду будочники непрерывно трещали в трещотки, трубили в рожки. И где-то вдали вспыхнули пожары.
У Герасима свело морозом кожу на спине.
И, словно вешние льды при половодье, по улицам, площадям и переулкам двинулся к Варварским воротам со всей Москвы народ.
Амвросий в мужичьем, из сермяги, армяке, с закрученными в косу и спрятанными под крестьянскую войлочную шляпу волосами, вышел на Кремлевскую площадь, слабо освещенную редкими масляными фонарями, земно поклонился златоглавым кремлевским соборам, вместе со своим племянником, консисторским канцеляристом, сел в простую бричку и чрез Никольские ворота, крадучись, выехал в Донской монастырь.
Навстречу им с палками, топорами, железными клюшками, топоча сапогами по деревянному настилу, непрерывной цепью бежал и поспешно шел сквозь тьму народ, старые и молодые, женщины и ребятишки, задышно кричали на бегу прерывистыми голосами:
– Начальство владычицу грабит... Не дадим Богородицу, не дадим! Животы положим за всевышнюю заступницу... Это новый архиерей все, смерть Амвросию!
Подъехавший к Китай-городу с пятью конными гусарами обер-полицмейстер Бахметев увидал десятитысячное скопище людей, толпившихся в возбуждении по обе стороны стены между Ильинскими и Варварскими воротами.
– Зачем вы здесь? – спросил Бахметев.
– На сполох сбежались... За матушку пресвятую Богородицу до последнего издыхания стоять.
Бахметев пожал плечами и поехал с конвоем к генералу Еропкину с докладом. У Воскресенских ворот он встретил бежавшую толпу. Народ стекался от Охотного ряда, с Моховой, Тверской. Впереди толпы в синем из китайки балахоне бородатый мясник Хряпов с дубиной на плече. Не переставая и повторяя одно и то же, он что есть мочи кричал:
– Ребята! Поспешайте постоять за мать пресвятую Богородицу! – Весь взмокший, он облизывал пересохшие губы, потягивал на бегу из бутылки то ли вино, то ли воду. – Ребята! Поспешайте постоять за мать пресвятую Богородицу...
Объятый кромешной тьмой город был страшен. Но далеко не вся Москва примкнула к бунту. Многие, не зная куда, бежали ради любопытства. А большинство мирных жителей сидело по домам, накрепко заперев ворота. Сплошной набат, беспрерывный звук трещоток, топот, гвалт, ругань бегущих бунтарей, жуткий вой дворовых псов вселяли в сердца мирных людей немалый ужас. Сидящие взаперти не могли понять, что творится на Москве. Одни думали, что турки одержали над нами победу и берут Москву, другие – что фабричный люд разбивает карантины, иные полагали, уж не объявился ли в Кремле каким чудом сам государь Петр Федорович III, о нем давно живет молва среди московского народа...
Бой трещоток продолжался, набатный звон кой-где еще гудел, будочники спешно загораживали улицы рогатками: «Нет проходу!.. Назад, назад. Нет проходу!» – но рассерженный народ воинственно опрокидывал преграды, все бежал, бежал, потрясая ночную тьму буйными, бессмысленными криками.
И вот хлынула толпа от Варварских ворот в Кремль. Пробегая Спасским мостом, буяны опрокидывали в ров все книжные лари и лавки. Ворвавшись в Кремль, они бросились к Чудову монастырю, вломились в покои архиерея, всюду искали Амвросия, выволокли из-под его кровати за ноги какого-то пожилого сухопарого монаха с золотым наперсным крестом и, приняв его за Амвросия, начали трепать. Келейники и подоспевшие седовласые монахи стали защищать его: «Православные, это ж не владыко Амвросий!.. Это евонный брат меньшой, Никон, архимандрит Воскресенского монастыря, на излеченье сюда прибыл...» – «А где Амвросий?» – «Невесть куда скрылся, еще вчера вон выехал...»
Тогда избитого Никона отпустили. От ужаса он лишился речи и через две недели умер. Бросились все ломать и коверкать, разбили кельи, разгромили консисторию, драгоценную библиотеку, вышибли окна, двери, изломали печи, в домовой архиерейской церкви буйные кучки раскольников содрали с престола серебряный оклад, похитили утварь и дорогие сосуды, антиминс разодрали на куски, иконы щепали топорами, из перин выпускали пух и перья.
А внизу тем временем взламывались купеческие винные склады.
Силач-кузнец тяжелым молотом сшибал с прикряком огромные замки. Приставленные окарауливать склады, старые, с седыми косами, солдаты-инвалиды, побросав кремневые ружья, тоже кинулись взламывать тяжелые, обитые железом двери. Им помогали скучавшие по вину монахи.
– Подается, подается!
Вот двери распахнулись, в нос шибанул из складов крепкий веселящий сердце дух. Пред складом уже успели развести костер из поломанной архиерейской мебели, консисторских бумаг, драгоценных книг, расколотых икон. Из темных складов к огоньку повыкатили бочки с французской водкой, английским пивом, понатащили тысячи бутылок с заморскими винами.
– Чередом, чередом таскай, не бей! – покрикивали караульные солдаты. – Прольешь, не выпьешь!
– Знай бей, хватит! На всю Москву у них, сволочей, запасено. А ну, попробуем господского! – Заработали тесаки, бутылкам ссекали, как курицам, головы, забулькало-полилось вино, вспыхнули новые костры, закружились мысли, развязались языки, повеселели ноги, у костров во всех местах разудалая песня грянула, плясы поднялись.
– И-эх, завей горе веревочкой... Гуляй, душа!
Полночная тьма колыхалась от пламени костров. Иван Великий, вознесясь во тьму седым столбом, мерно как бы покачивался, золотая его шапка, вобрав в себя отражение огней, казалось, строила странные гримасы.
Древняя историческая, видавшая многие виды Кремлевская площадь впервые за всю жизнь справляла в дни чумы страшный пир.
Кремль в эти часы был грозен.
Всех полицейских, офицеров и суровых в длиннополых сюртуках старцев, приходящих сюда с уговорами, толпа забрасывала камнями.
Бледный, встревоженный зодчий Баженов всю ночь простоял у окна молельного дома, пытливо вглядываясь в то, что творится перед его изумленными глазами.
К рассвету вся Кремлевская площадь, мощенная белыми плитами, покрытая перьями и пухом, казалась необозримым полем кровавой сечи. Она сплошь была усеяна то ли мертвыми, то ли пьяными телами. Гнусавый храп, предсмертные стоны, дикий бред и одуряющий винный запах густо нависли над площадью.
Весь красный, с подбитым глазом, Хряпов, широко раскинув руки и ноги, лежал вверх бородой возле царь-пушки и богатырски всхрапывал. Около него, сжавшись в комочек, ютился бездыханный, опившийся вином, жалкий горбун-подьячий в жалком колпачке.
Не одна тысяча московского всех состояний сброда лежала вповалячку: челядинцы в замызганных кафтанах из мухояра, падкие на дармовое винцо мелкие купчишки, подьячие с козьими бородками и всякая «приказная строка», бабы, подростки, молодые иноки и седовласые брюхатые монахи, разные гулящие непотребные женки, фабричный люд, мастеровые, расстриги-попы и старые солдаты-инвалиды, бывшие в карауле при складах, немалое количество отвратительных нищих, кликуш, калек, юродивых... В подвальных складах тоже много опившихся и утонувших в выпущенном из бочек вине и пиве.
Кремлевская площадь казалась мертвой. Лишь проснувшиеся голуби и галки, перелетая стайками и взвевая с площади легкий пух, изыскивали, что бы поклевать, да неприхотливые псы, робко повиливая хвостами, шлялись от тела к телу, облизывали заплеванные бороды и пожирали всякую изверженную дрянь.
Вслед за собаками и птицами, когда на Спасской башне отзвонили шесть и наступил рассвет, появились живые люди: полиция, будочники, солдаты, приехали на конях обер-полицмейстер Бахметев с офицером Саблуковым.
К девяти часам утра площадь была очищена от пьяных и проспавшихся.
Смерть за ночь широко прошла над человеческим месивом усердных вчерашних богомольцев: на белых кремлевских плитах осталось больше сотни мертвецов. И не разобрать – опились люди или очумели. Но не все ль равно? – страшные санитары-погонщики в страшных масках всех поволокли крючьями к чумовым страшным фургонам, повезли за город, в общую яму.
Маленький подьячий едет в могилу пышно, по-богатому; его аккуратно положили в фургон на самый верх. Несчастный в жизни, он теперь царит над мертвецами, он придавил собою мертвецов. Скорчившись калачиком, он тихонько лежит, и к жизни и к смерти равнодушный. Лишь полуоткрытый голый рот, подводя всему трагический итог, как бы хочет вымолвить: «Дыра-дело, дыра-дело».
Профессор академий – Римской, Болонской, Флорентийской – зодчий Баженов, распустив по плечам взлохмаченные волосы, опять стоял у своего окна и, наблюдая угрюмую действительность, молча глотал слезы.
По тряской дороге к смертным ямам чумные возы вдруг зашевелились, из возов послышались стоны мнимых мертвецов: «Спасите, спасите».
И снова возбужденная толпа, еще с вечера разгорячившаяся буйством:
– А-а-а, живых хоронят?! Кувыркай возы... Бей погонщиков, бей начальство! Выручай народ!..
И без всякого опасения заразиться набежавшие люди голыми руками стали разбирать возы, вытаскивать из кучи мертвецов воскресших винопивцев и ярыжек.
5
Едва очистилась площадь от трупов, Кремль снова, и очень быстро, стал заполняться сбродом. Многие бросились в подвалы допивать вино. А большое скопище бунтарей, узнав, что Амвросий скрывается в Донском монастыре, живо сговорилось и побежало туда ловить его.
От генерал-поручика Еропкина примчался в монастырь офицер. Он предложил Амвросию скорей переодеться и немедля ехать вместе с ним на Хорошево, за город.
– Моя кибитка ожидает вас в конце сада князя Трубецкого. Поспешайте, владыко! Сюда бежит народ.
Действительно, разбив по пути несколько карантинов, мятежная толпа с шумом, гамом, ружейными выстрелами буйно подтекла к Донскому монастырю.
Архиерей еще не успел сесть в кибитку, как монастырские стены были атакованы народом. «Отпирай, отпирай!» – и ворота затрещали.
Окруженный старыми монахами, смятенный архиерей поспешно вошел в собор, поднялся на хоры, схоронился за иконостасом. Но ворвавшаяся толпа нашла его, выволокла во двор, к колокольне. Потрясенный, бледный, но не потерявший мужества, Амвросий твердо вопросил:
– Что вы, безумные, надо мною злоумышляете? Не я ли пекся о спасении вашем, не я ли хотел укротить попов, обманувших вас измышленным ими богомерзким чудом?
Толпа не слушала. Подстрекаемая целовальником Дмитриевым, толпа орала:
– Молчи, молчи, антихрист! Не ты ли послал грабить Богородицу? Не ты ли воспретил хоронить покойников у церквей? Не ты ли присудил забирать нас в карантины?
– Бей супротивника народного! Бей богоотступника!
И толпа в восемь кольев принялась избивать архиерея. Он рухнул на землю. Толпа остановилась. Но вот «присмотря, что правая рука отмашкою двигнулася, с чего принялися паки бить кольями по голове. Какой-то штрафной поп последним довершил ударом, оторвав несколько от главы, коя часть над глазом и осталася висящею».
Страсти в Москве не угомонились. Побросав свои жилища, многие отчаянные непроспавшиеся головы стягивались в кучки, всюду открыто слышались разжигающие выкрики – идти в Кремль, похозяйничать в соборах, разбить на Красной площади гостиный двор, пощупать купечество, разграбить и пожечь дворянские палаты, уничтожить карантины.
В иных местах бородатые неведомые люди кричали в подгулявшую толпу, словно швыряли в солому горящие головешки:
– Пропадает, пропадает, мирянушки, Русь крещеная! То войну с неверными Господь попустил, то поветрие моровое. А пошто так? А по то, что немка нами правит, мирянушки! Куда она дела супруга своего, государя нашего Петра Федорыча? А?
– В народе, коло нас бродит государь! – уверенно отвечают голоса из плотно сбитой, взбудораженной толпы.
– Ничего не в народе, – сморкаясь в красный платок, громко говорит седобородый представительный старообрядец в картузе со светлым козырем. – За границу его величество утек, к тальянцам. У папы римского в сокрытии живет.
– Р-р-ра-зойдись! – обнажая тупые тесаки, угрожающе орут подоспевшие жалкие видом старики-солдаты под водительством бомбардира Павла Носова.
Подгулявшая толпа встречает их дружелюбным хохотом. По толпе уже гуляют из рук в руки два штофа зелена вина.
– Эй, деды-воины! А ну, выпьем за здравие государя Петра Федорыча. Ур-ра!
В эти разгульные дни подобных толп было в Москве много. Они состояли главным образом из барской дворни, брошенной бежавшими господами, да из фабричных работников с примесью «крапивного семени», ремесленников и мелких торговцев. О чем бы ни судачили эти толпы, о чем бы они ни спорили, – разговоры о недовольстве Екатериной-немкой, разговоры о нетерпеливом ожидании скорого пришествия Петра III стихийно возникали всюду.
Генерал-поручик Еропкин отлично понимал, что спасение Москвы – в военной силе. Весь этот день он с большим трудом, «кусочками», «собирал команду, кой-как к вечеру сколотил отряд в сто двадцать человек и добыл две неважные пущонки». С этой горсточкой людей около шести часов вечера он двинулся от Остоженки к Кремлю.
На разношерстный, распаленный событиями сброд, заполнивший Красную площадь, появление отряда не произвело никакого впечатления. А при входе чрез Боровицкие ворота в Кремль отряд был встречен дубьем, ожесточенными криками. Солдаты зарядили пушки, ружья, стали запирать ворота в Кремль.
После ружейного залпа и штыковой атаки многие трусливо побежали из Кремля, иных стали ловить, вязать, сажать в подвал.
На Красной площади шум не унимался, народ прибывал. Яицкий казак, бородатый и косоглазый Федот Кожин, сбежав со своей полицейской службы, подзуживал вооруженную кольями толпу:
– Дуй, братцы, напролом в Кремль! Нас сила, мы солдатишек, как курей, затопчем. Я вольный казак войска Яицкого. Вперед, братцы! – свирепо косил он глазом и потрясал ржавым тесаком.
Шумел против Спасских ворот и мясник Хряпов. Подбитый глаз его завязан красной тряпицей, за эти неспокойные дни он заметно похудел, нос заострился, давно нечесаная борода свалялась в мочалку.
Из Спасских ворот выехал на рыжем рослом коне генерал-поручик Еропкин. Он бесстрашно врезался в толпу, всячески стал успокаивать народ:
– Полно-ка, полно, друзья мои. Опомнитесь да подумайте, что это вы затеяли...
В этот миг больно перепоясала Еропкина по сутулой спине увесистая дубина, полетели камнищи, кирпичи.
– Убивай, ежова голова, начальство! – орал подоспевший со своей оравой яицкий казак. – Вали напролом в ворота! Вперед, вперед, старатели!
– Братцы! – что есть силы горланил и Хряпов, размахивая железной палкой. – Постоим за себя!.. Не робей!
Раненый Еропкин, грозя нагайкой и визгливо вскрикивая: «Стрелять прикажу!.. Будет вам, дуракам, жарко!», ускакал в Кремль.
Живо были подкачены в Кремле к Спасским воротам две пушки, и, когда народ ворвался в ворота, был дан выстрел картечью, а затем – ядром. Сраженные и насмерть перепуганные мятежники грудой повалились друг на друга. Оставшиеся в живых, придя в память, повыскакивали на Красную площадь. Вслед за ними выкачены на площадь и обе пушки. Офицеры Саблуков и Волоцкий дали по удиравшим еще два выстрела картечью и несколько залпов из ружей. Красная площадь опустела. Убито около сотни, схвачено двести сорок девять человек. Между пойманными множество подьячих и приказной мелкоты изо всех коллегий; были мясники с Охотного, крепостные крестьяне, бородатые раскольники и кабацкие ярыжки.
Попался и мясник Хряпов, раненный картечью в ногу.
Уведомленный о беспорядках фельдмаршал Салтыков 17 сентября утром въехал на шестерке каурых в первопрестольную столицу. Увешанный ладанками с камфарой и то и дело опрыскивая себя противочумными снадобьями, маленький, седенький, простенький, он сидел в обширной закрытой карете, как в большом сундуке суслик, и брюзгливо бормотал себе под нос проклятья подлым взбунтовавшимся людишкам. За спиной кучера и позади кареты – две жаровни с пылавшими углями и раскаленными камнями; два казачка бросали в жаровни благовонный порошок и плескали уксус «четырех разбойников». От мчавшейся кареты с форейтором на передней лошади валили двумя хвостами дым и пар. За экипажем, поддергивая порточки, бежали босоногие мальчуганы, кричали:
– Глянь, глянь, пожар!.. Барина опаливают в карете!
Вскоре вступил в Москву и Великолуцкий, в триста пятьдесят штыков, полк.
Мятеж утих в Москве, но искры его перекинулись в подмосковные поместья, деревни, экономические и дворцовые вотчины.
В окрестных селах появились бунтари, нарядившиеся в военные мундиры. Ложными указами, якобы от губернской канцелярии, они стали сеять смуту. Это были дворовые люди, покинутые проживавшими в Москве господами, или потерявшие службу канцеляристы и подьячие, или обозленные на жизнь фабричные. Они действовали в разных местах складно, как по уговору: сзывали крестьян, отбирали подписки от попов и старост, говорили: «Коль скоро услышите в Москве набат либо пальбу из пушек, тотчас поспешайте в город с дубьем, рогатинами, топорами. В Москве крамола. Амвросий-изменник убит. Еропкин убит. Фельдмаршал Салтыков под караулом. Все они супротивники государыни. Из Петербурга указ получен: дворянские дома разрушать, всю рухлядь из оных палат делить промеж бедноты».
В разных деревнях и селах пятеро бунтарей было схвачено помещичьими пикетчиками, попался и яицкий казак Федот Кожин.
Стало холодеть. Чума приметным образом пошла на убыль. За всю эпидемию умерло в Москве более ста тысяч человек. Да немало было жертв и в двухстах заразившихся деревнях Московского уезда. На борьбу с чумой по одной только Москве была без толку затрачена правительством огромная сумма в четыреста тысяч рублей.
В конце сентября прибыл с большой свитой и воинскими частями граф Григорий Орлов. На месте убийства Амвросия были казнены виселицей уличенные в злодеянии – целовальник из московских купцов Иван Дмитриев и полковника Раевского дворовый человек Василий Андреев. Изрядное число людей было наказано кнутами. Многие отсиживались в остроге, среди них – бывший придворный мясник Хряпов и казак Яицкого войска Федот Кожин.
Глава VII
Воинский отпор. Не пилось, не елось
1
Пока наши депутаты мытарились по Питеру в поисках правды, в Яицком городке произошли чрезвычайные события. Подоспел вторичный ордер оренбургского губернатора Рейнсдорпа на немедленную отправку команды в Кизляр для ловли калмыков.
Генерал Давыдов получил новое назначение, на его место прибыл из Оренбурга генерал-майор фон Траубенберг.
Человек решительный, самовластный, грубый и озлобленный действиями непослушных казаков, генерал Траубенберг настойчиво потребовал немедленной отсылки команды в Кизляр. Но сотники и казаки непослушной стороны в круг не пришли, да, в сущности, и являться в круг было некому: почти все непослушные, боясь преследований, разбрелись по хуторам и займищам или жили в домах под укрывательством.
В январе 1772 года депутация, во главе с Кирпичниковым, возвратилась из Петербурга в Яицкий городок.
В тот же день сотник Кирпичников передал капитану Дурново запечатанное письмо от графа Орлова.
Прочтя письмо, Дурново сказал:
– Войско целый год поджидало вашего возвращения из Петербурга и до сего времени не отправило команду в Кизляр. Поэтому растолкуйте войску, что команду должно отправить немедля.
– А мне какое дело? – заносчиво возразил Кирпичников. – Как войско умыслит, так и поступит.
К вечеру, в доме отставного казака Толкачева, сотник Кирпичников отдавал отчет казакам. Весь дом был окружен большой толпой. Среди толпы слонялись и казаки старшинской стороны, но их брали за шиворот, выталкивали вон. Кирпичников вышел к народу и сказал:
– На челобитные наши, не единожды подаваемые самой императрице, резолюции не последовало.
– Что ж делать нам? – уныло раздались голоса.
– Не ведаю, – развел руками Кирпичников и, оглядевшись по сторонам, как бы опасаясь чужих ушей, заговорил не громко, но отчетливо: – А пакостит нам во всем граф Чернышев. Он многих наших выловил, кого плетьми драл бесчеловечно, кого в Петропавловскую крепость бросил, аки сущих злодеев и разбойников. Нам, братья-казаки, самим за себя стоять надо, вот что. – Кирпичников поднял руку и потряс ею в воздухе. – Самим за себя, говорю! А то граф Чернышев всех изведет и с приплодом нашим, вот что. Он без ведома государыни генерала Траубенберга сюда прислал, чтоб доконать нас.
Глаза казаков загорелись, голоса окрепли. Потирая на морозе уши, казаки кричали:
– Говори, сотник, что нам делать?.. Мы от правды не трекнемся. Сказывай!
– Сейчас давайте спосылаем к капитану Дурново выборных, и пусть наши выборные просят его немедля отрешить старшин, как сказано в указе. Сколько давать сроку? – спросил Кирпичников.
– День... два дня... Мало!..
– Ежели на третий день по посылке старшин не отрешат, – угрожающе заговорил Кирпичников, – ежели положенного штрафа с них не взыщут и войску жалованье за пять лет не уплатят, тогда, братья-казаки, мы поступим воинским отпором! – выкрикнул он, встряхнув высоко поднятыми кулаками.
– Верно! Воинским отпором... Чего терпеть!.. – по-боевому откликнулась толпа.
На другой день в избу сотника вошли три казака старшинской стороны.
– Генерал-майор Траубенберг приказал спросить, имеется ли у тебя указ, по которому ты мутишь народ?
– Указа нет, – сдвинув брови, сурово ответил Кирпичников.
– Думаешь ли ты круг собирать?
– Я не атаман.
– Хоть и не атаман, да войско слушается тебя больше, чем атамана.
– Уходите! – крикнул на них Кирпичников. – Да не шляйтесь ко мне, я иду в баню... Баба, собери белье!
Удивленный таким поведением Кирпичникова, генерал пожал плечами и нервно поскреб плохо выбритую щеку.
– Ну я ж его, бунтаря, проучу.
Бывшему в войсковой канцелярии старшине Окутину он сказал:
– Будь друг, сходи, пожалуй, к Кирпичникову, прикажи ему от моего имени, чтоб немедля шел сюда. Атаман, старшины и послушная сторона желают услыхать от него, что воспоследовало по челобитью их в Санкт-Петербурге? Мы соберем круг.
Как только Окутин стал стучаться к Кирпичникову, тот выскочил из избы, дал старшине по шее и с бранью столкнул его с крыльца.
– А-а-а... Ты старшину бить?! – заорал тот. – Ведь я полковник!..
Кирпичников затрясся и выхватил из ножен саблю:
– Уходи, покуда я из тебя двух полковников не сделал!.. Казаки, гоните его, собаку, со двора!..
Траубенберг, выслушав побитого Окутина, вспылил. В его груди закипело. Он прикидывал в уме собственные карты и карты своего упорного противника. Игра начинала становиться рискованной – он сильно побаивался навлечь на себя недовольство при дворе, ему хотелось поэтому всеми силами без шума умиротворить непослушную сторону казаков. Он послал к Кирпичникову депутацию из тридцати казаков с дьяком во главе и с тем же старшиной Окутиным – пусть они как можно резоннее втолкуют Кирпичникову, что так своевольничать нельзя, и пусть тихо-смирно приведут его в войсковую канцелярию.
Отряд спокойно, не борзясь, вошел во двор сотника Кирпичникова. Казаки легонько постучали в дверь. Ответа не было. Они постучали покрепче. Из сенец хозяйка закричала:
– Нет самого! Ушел.
– В баню, что ли? – Казаки осмотрели баню – пусто. Осмотрели сеновал и хлев. Пусто. Опять стали стучать в дверь, стали ломиться и кричать: – Открой! По приказу его превосходительства.
На крик и грохот начали выбегать соседки, останавливаться прохожие. Быстро собралась буйная толпа казаков непослушной стороны.
– Наших бьют! – кричали они. – Хватай старшинских приспешников. Имай под свой караул!
Загорелось побоище. Казаки вязали друг друга, таскали пленных всяк в свою сторону. Трое бородатых казаков были схвачены старшинской стороной и на арканах уведены в войсковую канцелярию. Генерал Траубенберг приказал выдрать их на площади плетьми, посадить под караул.
Оскорбленная этим непослушная сторона воинственно приняла вызов Траубенберга. В казачью кровь вломился дух стойкого сопротивления.
По Толкачевой (она же Кабанкина) улице, выходившей окнами на берег Яика, стали со всего города стекаться непослушной стороны казаки. На берегу запылали для сугрева огнистые костры.
Огромное скопище непослушных расставило по улицам собственные пикеты с приказом всех выходящих из своих домов казаков старшинской стороны ловить и сажать под караул. А сотники из бедняцких семей разослали повестки, чтоб все непослушные – как городские, так и живущие по хуторам и форпостам, и стар и млад – тем же часом собрались на совещание в Толкачеву улицу.
И вскоре со всех сторон начали стекаться непослушные, кто верхом, кто в санях, кто пеший.
Вся Толкачева и прилежащие к ней улицы, соседние дворы и избы наполнились народом. Зажигались новые костры, похрапывали лошади, слышались гиканье, задорные разговоры, крик. В толпе много воинственных казачек-женщин. То боевым выкриком, то насмешливым, ядреным, под хохот толпы, словом они наддавали пылу, подогревали настроение.
Оставшимся в своих домах казакам старшинской стороны стало страшно. Им ежеминутно угрожали насилия от казацкой бедноты. Спасая себя, они под прикрытием морозных сумерек по одному, по два прокрадывались к войсковой канцелярии под защиту пушек. Туда же невесть с чего потащились в ночную пору подозрительные возы с сеном, с соломой, с барахлом.
– Стой! – закричали возле церкви пикетчики и засмеялись, окружив ползущий мимо них воз сена, из которого торчали ноги.
Баба испуганно стегнула лошаденку.
– Стой, кума, стой! – и молодой губастый казак Ермилка, уцепившись ручищами за торчавшие бахилы, выволок из сена икряного широкоплечего бородача.
– Здорово, Акинфиев! Куда собрался? – с хохотом загалдели пикетчики.
– А ну-ка, братцы, у кого пика повострей? Надо воз прощупать, авось еще рыбину проткнем... Ха-ха! – по-озорному громко закричал веселый Ермилка и выхватил пику у соседа.
– Погодь, толсторожий! – заплакав, что есть силы заорала тетка. – Там ощо хозяин мой...
Вдруг весь воз вздрогнул и снизу доверху зашевелился, из сена вылезли еще четыре бородача с короткими винтовками. Посапывая и пыхтя, они конфузливо сдернули с голов шапки. Старик сказал пикетчикам:
– Не трожьте нас, ребята. Не делайте нам бесчестья...
– И не совестно вашим харям-то, казаки? – обрушились на них пикетчики. – Богатых защищать лезете да администрацию набеглую?.. А сами-то вы кто? Голытьба ведь...
– Точно, голытьба, – глядя в землю, забурчали пойманные. – Мы в долгах ходим у богатеев да у старшин... Вот и опасаемся перечить-то...
– Айда, приклоняйтесь в непослушную. А нет – шубы перешивать учнем вам, пыль полетит, – потряс губастый Ермилка нагайкой.
Баба по-злому заголосила, заругалась:
– Ах вы, черти. Опять кроволитья захотели?.. Видно, дожидаетесь, чтоб батюшко Исус Христос опять заплакал!
– Как заплакал? – разинули рты казаки и посунулись к Матрене.
– Как, как, – огрызнулась она, отирая горстью слезы: – Неужто не слыхали – у Анны Глуховой спасов образ плакал горькими, когда проклятый генерал Черепов расстреливал вас, дураков бородатых, возле круга-то?..
Казаки переглянулись и закрутили головами.
С высоты пустынных небес глядел холодным глазом месяц. Каленый мороз крепчал. Раздираемые морозом, потрескивали бревна в избах. Казачьи бороды, мохнатые лошаденки, оголенные ветви деревьев в садах и огородах запушнели инеем. Мороз словно клещами щипал носы, уши, жег щеки, леденил кровь, прохватывал зябким холодом насквозь. Но возбужденное казачество всю ночь не расходилось. Число костров умножилось.







