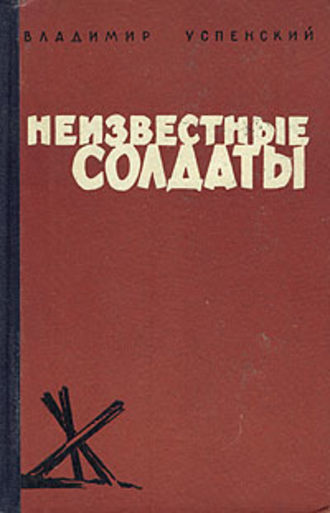
Владимир Успенский
Неизвестные солдаты, кн.1, 2
Даже под тулупом пробирал Крумбаха мороз. Стыли кончики пальцев, хотя, собираясь в путь, Фридрих надел, кроме рукавиц, последнюю оставшуюся у него пару перчаток, которую долго хранил для торжественного вступления в Москву. Об этом теперь не стоило думать. А руки он берег больше всего. Он верил, что придет такой день, когда в его доме соберутся, как и прежде, друзья, и он с удовольствием будет играть на скрипке.
Холод, однообразный зимний пейзаж действовали на Фридриха угнетающе. Снежная пустыня, залитая голубоватым лунным сиянием, развертывалась, как в страшной сказке: глухая, затаившая непонятную угрозу, она, казалось, способна была навсегда поглотить людей, умертвить все живое. В небе льдинками мигали большие светлые звезды. При взгляде на них становилось еще холодней.
Крумбаха удивлял Кислицын, ехавший налегке, в обычном своем черном пальто. Только кепку он заменил на этот раз шапкой, но уши ее болтались неподвязанными. Правда, от начальника полиции сильно попахивало водкой. Но и Леман тоже изрядно выпил перед дорогой, однако сейчас чувствовал себя не лучше обер-лейтенанта. Дрожал в санях и клацал зубами.
Присутствие Кислицына, которому привычен был и этот холод и этот пейзаж, ободряло Крумбаха. Стоило взглянуть на лицо начальника полиции, как все сразу становилось на свое место. Обычное дело: немецкий отряд едет по зимней дороге выполнять боевой приказ. И только…
В Стоялове отряд задержался недолго. Кислицын разыскал старосту Сидора Антипина. Старик, поднятый с постели, был изрядно напуган и окончательно пришел в себя только в санях.
Солдатам Крумбах разрешил выпить по сто пятьдесят граммов водки. Люди согрелись и приободрились.
Однообразно скрипел под полозьями снег. Негромко разговаривали Кислицын и Антипин. Сани скользили плавно, без толчков. Обер-лейтенант начал подремывать.
Вдруг лошадь остановилась. Вскрикнул унтер-офицер Леман. Крумбах вскочил, выпрыгнул из саней. Дорога шла под уклон, впереди виден был мост, а от него бежали в сторону двое: их черные фигуры резко выделялись на белом фоле. Еще один человек бежал за мостом по бугру, но он был далеко и сразу исчез среди кустов.
– Партизаны! – кричал Кислицын.
Крумбах выхватил у него кнут и хлестнул лошадь. Боком повалился в сани, прямо на Лемана. Поднявшись, сбросил тулуп, вытащил из-под сена свой автомат.
Лошадь быстро, вскачь, неслась по укатанной дороге, а партизаны убегали медленно, увязая в снегу. Один из них, повыше ростом, хромал и все больше отставал. Когда сани остановились возле моста, он махнул рукой товарищу, указывая на кусты, а сам упал в сугроб.
– Возьмите его живым! – приказал Крумбах и дал длинную очередь по удалявшемуся партизану.
Но тот бежал пригнувшись, зигзагами, попасть в него было трудно. Пока Крумбах целился, раздался негромкий сухой щелчок выстрела. За спиной Фридриха всхрапнула, вскинулась на дыбы лошадь и тяжело рухнула на дорогу, оборвав постромки. Выругался ушибленный оглоблей Кислицын. Дед Сидор, закрыв руками лицо, скатился по крутому откосу.
Вторая пуля свистнула возле Крумбаха. Он лег на дорогу. Но теперь ему не виден был убегавший партизан.
– Леман! Стреляйте в них, черт возьми!
Сразу затрещало несколько автоматов и торопливо забухали винтовки. Крумбах, подождав с минуту, приподнялся. Солдаты лезли по снегу, растянувшись цепочкой. Маленький партизан, почти добежавший до кустов, теперь валялся, не двигаясь. А другой еще отстреливался. Солдаты залегли метрах в ста от него. Оттуда со стоном полз к дороге раненый. И только после того как Карл Леман бросил гранату, партизан прекратил огонь.
Стрельба утихла, но дед Крючок долго еще сидел под мостом, проклиная свою горькую жизнь и прося милости у богородицы. Потом, успокоившись, выкарабкался на дорогу. Немцы ходили злые, говорили отрывисто и резко. На санях лицом вниз лежал солдат с неестественно раскинутыми руками. А на соседних санях перевязывали другого, раздев его до пояса. Раненый дрожал и всхлипывал.
Крючок от греха подальше решил убраться с дороги к Кислицыну, стоявшему поодаль. Стараясь не зачерпнуть в валенки, медленно лез по сугробам.
– А, явился, старая кляча, – недружелюбно встретил его начальник полиции. – Если в штаны наклал, не приближайся.
Дед не ответил. Вытянув длинную шею, он смотрел, как двое немцев обшаривают карманы убитого. Потом немцы оставили этого партизана и направились к другому.
– Ишь, черт! – бормотал, наклонившись, Кислицын. – Шапка-то на ем серая, армейская. А полушубок хороший… Эй, старая кляча, мотайся сюда, – позвал он. – Помоги валенки снять. А то ноги заколодеют, не сдерешь потом.
Крючок подступил ближе, опасливо косясь на убитого, и вдруг ахнул, поднял руку в крестном знамении.
– Григорь Митрич! Спаси царица небесная! Как бог свят – Григорь Митрич!
– Ну, ты, не пяться. Пужливый больно! – прикрикнул Кислицын. – Опознал, что ли? Кто это?
У Крючка чуть не сорвалось с языка: дескать, земляк, стояловский. Но спохватился. Еще подпалят немцы деревню в отместку, сгорит и его добро. Сказал поспешно:
– А как же, как же! Человек этот очень на весь район известный. Одуевский он, Булгаков его фамилия. Партейный коммунист, осохимом командовал…
– Вот оно что-о-о! – протянул Кислицын. – Слышал я про него… Допрыгался, значит, начальничек. Давно пора!
Дед Крючок, подвинувшись бочком и не глядя в лицо мертвого, ухватился за валенок, потянул на себя. Труп мягко подался, пополз по снегу.
– Ты не тащи, не тащи, холява! Ты дергай! – закричал Кислицын, наступив ногой на грудь убитого.
* * *
Этот проклятый мост доставил Крумбаху много забот. Переправляться по нему было совершенно невозможно. Он постепенно прогибался, провисал посередине, и было удивительно, как не рухнул еще до сих пор. Утром с востока подошел санный обоз. Потом подъехала машина с боеприпасами. Возле моста образовался затор.
Крумбах приказал готовить оборону на высоком бугре, откуда хорошо просматривалась дорога. Солдаты делали валы из снега и поливали их водой.
Сам Крумбах занялся переправой. Решил срыть крутые склоны берегов, сделать пологие спуски, пропускать машины и повозки прямо по льду. Чтобы отогреть землю, разожгли большие костры, используя бревна от моста, политые бензином. К кострам стекались солдаты. Здесь были не только обозники, шоферы, но и пехотинцы. Они говорили, что вчера русские заняли населенный пункт в тридцати километрах отсюда и что на пути противника осталось только несколько маленьких гарнизонов. Значит, казаки будут здесь ночью, в крайнем случае – завтра утром. О казаках говорили, понизив голос. Это слово наводило страх, Крумбах не верил болтовне. Почему маленькие гарнизоны? А где же фронт, где войска? В его представлении группы обмороженных, укутанных в тряпье солдат, подходившие время от времени с востока, никак не вязались с давно сложившимся представлением о регулярных немецких частях. К мосту подходили тыловики, всякий сброд из вторых эшелонов. А настоящие солдаты впереди. Они такие же, как его люди: сытые, крепкие, тепло одетые.
К середине дня возле моста скопилось уже десять грузовиков, полсотни саней и повозок. Крумбах подчинил себе всех водителей и обозников, заставил готовить переправу. День стоял солнечный, мороз уменьшился. Работа подвигалась быстро, и Крумбах был доволен. Он надеялся до наступления темноты перебросить на западный берег все обозы, а потом, судя по обстоятельствам, отвести своих солдат на теплый ночлег в Дубки или возвратиться в Одуев.
Унтер-офицер Леман умудрился приготовить крепкий кофе. Целый термос прекрасного горячего кофе! Крумбах и Леман пили его с коньяком, ощущая, как растекается по жилам благодатное тепло. И в это время Фридрих услышал испуганный крик:
– Козакен! Козакен!
Отбросив термос, обер-лейтенант подбежал на бугор. То, что он увидел, вначале успокоило его. Русских было совсем мало, не стоило поднимать столько шуму. Километрах в двух от бугра медленно ехали по дороге пятеро всадников. Самое удивительное – почему они здесь? Но теперь не имело смысла размышлять об этом. Крумбах оказался на передовой линии, и нужно было принимать бой.
Еще во время прошлой войны в германской армии говорили, что против казаков могут устоять только немцы. Крумбах много слышал об этих русских кавалеристах, известных всему миру своей храбростью. Сейчас обер-лейтенант с любопытством разглядывал их в бинокль. Они ехали на низкорослых лошадках, только под передним всадником конь был высокий и тонконогий. Одеты в обычные красноармейские шинели, с накинутыми поверх плащ-палатками, которые прикрывали, как попоны, крупы коней.
Очевидно, они уже заметили немцев. Один из них повернул лошадь и поскакал обратно. Остальные медленно приближались. Ехавший первым снял с головы шапку и замахал ею. Вероятно, он что-то кричал, но голоса не было слышно. Потом всадник поднял карабин и выстрелил несколько раз.
Главные силы русских следовали за своей разведкой. Не прошло и часу, как вдали показалась колонна. Кавалерийская часть приближалась на рысях, оставляя за собой легкое снежное облачко, поднятое копытами. Голова колонны спустилась в овраг и скрылась из виду. Постепенно там же исчезли почти все всадники.
В овраге русские несколько задержались. Они оставили там лошадей, развернулись в цепь и повели наступление двумя группами: правей и левей дороги. Шли красноармейцы очень медленно, так как снег был глубокий. Двигались они не прямо на бугор, откуда стреляли немцы, а обходили возвышенность с двух сторон, оставив дорогу свободной. Крумбах не сразу понял их маневр. Но вскоре на дороге появилось несколько танков, выкрашенных в белый цвет. Танки тоже продвигались медленно, останавливались и посылали два-три снаряда.
Бой развертывался неторопливо. Русские или очень устали, или надеялись, что немцы сами покинут рубеж – так думал Фридрих. И он действительно увел бы своих солдат, потому что противник значительно превосходил его. Обер-лейтенант подчинил себе пехотинцев и имел теперь девяносто человек с пятью пулеметами. Он мог бы задержать спешенных кавалеристов, но против танков у него не было пушек.
Крумбаха связывали обозы. Оставался единственный выход: дождаться, пока будет готова переправа, пропустить на тот берег сани и повозки, посадить солдат в грузовики и ехать в Одуев, заминировав за собой дорогу.
* * *
Дед Сидор отсиживался в безопасном месте на берегу Малявки. Пули сюда не залетали, снаряды рвались далеко на бугре. Впрочем, Крючок сейчас даже не обращал внимания на стрельбу. Гораздо страшнее было то, что рушились все его планы, все надежды на будущее. Возвратилась Красная Армия, про которую немцы говорили, что ее совсем нет. Раньше Крючок ставил сразу на две карты. Если вернется старая власть, он мог сказать, что обманывал немцев, не делал людям зла, укрывал в своей деревне коммуниста Булгакова.
А что скажешь теперь? Григорий Дмитриевич да еще комсомолец Демид убиты фашистами, которых он привел. Попробуй объясни, что это произошло случайно. Никто и слушать не станет. Вздернут на первом попавшемся суку. Возвращаться в деревню нельзя. Надо уходить вместе с Кислицыным, вместе с красноносым комендантом. А разве это легко на старости лет покидать свою избу и тащиться неизвестно куда? Одна еще надежда: у немцев сила, они малость очухаются, отдышатся и снова попрут Красную Армию.
Раздумывая, дед Крючок поглядывал в ту сторону, где находилось Стоялово. Заскочить ли домой, предупредить старуху или не стоит? Опасно было откалываться от немцев. Ведь третий из тех, кто подпиливал мост, успел убежать. Может, сидит теперь этот человек и поджидает деда в деревне. Свернет шею в одну секунду, и пикнуть не успеешь.
Смотрел Сидор в сторону Стоялова и первым увидел такое, от чего разом пробил его холодный пот. Километрах в трех от него, в самом что ни на есть тылу, быстро двигалась цепочка всадников. Вроде бы прямо по целине, но дед знал, что там пролегает летняя дорога, хоть и слабо наезженная сейчас, но заметная. Передовые конники выбрались уже на большак, отрезав немцам путь на Одуев.
Крючок аж задохнулся, вместо крика вырвалось изо рта какое-то шипение. Кинулся искать Кислицына, но тот затерялся среди солдат, облепивших берег. Там еще не видели опасности, продолжали срывать склон, заканчивая почти готовую переправу.
Сидор повернул обратно к саням, но по пути сообразил, что ехать все равно некуда. И спереди и сзади на большаке красные, а по руслу Малявки конь не пойдет: слишком глубок снег.
Всадники быстро приближались, и уже несколько пуль резко свистнуло над головой Крючка. Схватив тулуп коменданта, он побежал к кустам. Что-то затрещало, загрохотало у него за спиной. Воздушная волна мягко толкнула его. Он упал и начал быстро-быстро разгребать снег. А докопавшись до земли, накрылся сверху тулупом и лежал не двигаясь, слыша крики, выстрелы, топот, Пытался и не мог прочесть вслух молитву – не подчинялись онемевшие губы.
* * *
Только когда русские появились в тылу, Крумбах понял их замысел. Они оковали его силы фронтальным наступлением, отвлекли внимание, а часть казаков тем временем перерезала ему путь отхода. Но Крумбах понял это слишком поздно. Кавалеристы, просочившиеся в тыл, открыли густой огонь из ручных пулеметов по незащищенным сзади солдатам, по тем немцам, которые работали на переправе.
Развязка наступила стремительно. Солдаты бросились вправо и влево вдоль речки, а казаки хладнокровно, как на учениях, расстреливали их. На бугор поднялись советские танки.
Крумбах и унтер-офицер Леман бежали к лошадям. Это был последний шанс: может, еще удастся ускакать по льду. Но добраться до того места, где сбились в кучу упряжки, они не успели.
За спиной раздался цокот копыт. Крумбах оглянулся. С бугра галопом неслись всадники, ослепительно сверкали под солнцем клинки. Вырвавшийся вперед кавалерист был уже близко. Крумбах остановился. У него будто отшибло соображение. Он видел, что смерть – вот она, совсем рядом, и не мог ничего сделать, ничего предпринять. Он только смотрел, инстинктивно пятясь от конника.
Унтер-офицер Леман вскинул руки. Разгоряченная лошадь сбила его широкой грудью, далеко отлетела шапка. И у Крумбаха руки тоже взметнулись сами собой. Но он забыл выпустить парабеллум. Всадник, решив, что немец намерен стрелять, ринулся на него, свесившись влево, заслоняясь лошадиной шеей.
Свистнул острый клинок, конец его полоснул Крумбаха по виску. Он пошатнулся, зажав рукой рану. Круто повернутая лошадь вскинулась над ним на дыбы, обдала острым запахом пота. Вновь свистнула сабля, и обер-лейтенант упал с рассеченной надвое головой.
* * *
Герасим Светлов приехал к переправе после того, как кончился бой и кавалеристы заняли Стоялово. Долго лазил, хромая, по истоптанному снегу, осматривал убитых, пока разыскал Григория Дмитриевича и Демида. Паренька немцы не тронули, сняли только полушубок. Зато Булгакова раздели до нижнего белья.
Лежал Григорий Дмитриевич на спине, устремив в небо страшные пустые глазницы. Голодное воронье уже выклевало его глаза. Обритая голова – будто желтый костяной шар, а на нем – темные пятна застывшей крови вокруг осколочных ран. Светлов поскорее прикрыл тряпицей изуродованное лицо Булгакова.
А еще наткнулся Герасим Пантелеевич на деда Крючка. Старик вытянулся в ямке, скрестив на груди руки и широко разинув рот. Пулеметная очередь прострочила его грудь и живот. Возле деда валялось много немцев. И все – ничком, лицом в снег, срезанные на бегу.
– Кто это? – спросил, указав на Крючка, один из красноармейцев, помогавших Светлову.
– Чужак, – зло ответил Герасим Пантелеевич. – Пускай тут гниет.
Кавалеристы разрешили взять несколько трофейных лошадей. На двух подводах повез Светлов в деревню Григория Дмитриевича и Демида. Ехал медленно, чтобы воротиться в Стоялово попозднее. Остановил коней возле колхозного правления, перенес окоченевшие трупы в холодные сени и замкнул дверь на замок. Демидкина мать, обезумевшая от горя, билась в истерике. Бабы отхаживали ее, и нельзя было сейчас показывать женщине мертвого сына. На следующий день Герасим Пантелеевич вместе с двумя стариками сладил гробы.
Очень не хотел Светлов, чтобы убитых видела Василиса. И без того много пережила девка. Вернулась тогда под утро, чуть живая от страха. Целые сутки била ее трясучка, как в лихорадке. Герасим Пантелеевич парил ей ноги, давал, водку и чай с медом – не помогало.
Но Василиса все-таки пришла в правление. Остановилась возле двери. Исхудала за эти дни, выглядела еще более высокой. Лицо почерневшее, неподвижное. Долго, не мигая, смотрела на Демидку сухими глазами. Потом сняла свой новый пуховой платок, накрыла им парня и ушла, не сказав ни слова.
* * *
Герасим Пантелеевич посоветовался со стариками и с родней Григория Дмитриевича – Аленой Булгаковой. В Одуеве держались еще немцы. Кто знает, может, фронт там будет стоять долго. Оно, конечно, в такой мороз мертвый может лежать сколько хочешь, а все-таки это нехорошо. Да и немцы могли вернуться в деревню – на войне случается всякое.
– Схороним здесь, – сказала Алена. – Зачем его в город везти? И мать его здесь зарыта, и отец. И дед с бабкой. В своей земле лежать будет.
Могилы Герасим Пантелеевич и старики копали два дня. Глубоко промерзшая земля поддавалась плохо, со звоном отскакивал от нее лом. Старики больше кряхтели, перекуривали, вспоминали, кого и когда довелось им провожать на тот свет.
Опустили в ямы некрашенные гробы. Заголосили, запричитали бабы. Светлов, подергивая редкую татарскую бороденку, сказал сурово:
– Прости и прощай, дорогой наш Григорий Дмитриевич. В этой вот церквушке окрестили тебя, сюда ты и возвернулся. Плохого мы от тебя не видели, а хорошего много. Спи спокойно. Ну, земля тебе пухом!
Твердые комья дробно застучали по гробу.
Еще через пару дней в другом конце кладбища закопали Крючка. Жена деда Сидора упросила стариков съездить за ним. Как-никак, а все же свой человек, православный и негоже было бросать его среди басурман.
А убитых немцев некому было убрать. Кавалеристы ушли дальше, к Одуеву. Среди крестьян не нашлось охотников долбить землю ради незваных пришельцев. В зимнем туманном небе над полем боя с утра начинало кружиться воронье, и до самого вечера не, затихало там гортанное хриплое карканье. Потом, разведав поживу, зачастили туда оголодавшие волки.
* * *
В штабе 2-й танковой армии – необычайная тишина. Не слышно голосов, хотя все отделы продолжали работать, все офицеры находились на своих местах. Телефонные разговоры вели почти шепотом. По коридорам пробирались на цыпочках, боясь как бы не скрипнули сапоги.
Работники штаба волновались. Из уст в уста передавалась новость: ожидаются крупные изменения в командовании и перемещения по службе. Однако суть дела знали только двое: сам генерал-полковник Гудериан и начальник штаба подполковник барон фон Либенштейн, закрывшиеся в кабинете. Если кто-нибудь осмелился бы сейчас зайти в кабинет, то увидел бы картину совершенно неправдоподобную. Гейнц Гудериан, об аккуратности которого ходили анекдоты, лежал на кровати в сапогах, в расстегнутом и помятом мундире. На опухшем лице застыло удивленно-обиженное выражение.
Подполковник Либенштейн, как всегда подтянутый, выбритый и надушенный, сидел за столом в кресле Гудериана и писал ручкой, которой раньше пользовался только сам генерал. Либенштейн составлял проект прощального приказа по войскам. Это было последнее, что он должен был сделать для своего командира: сегодня утром поступило распоряжение Гитлера о снятии генерал-полковника Гудериана с занимаемой должности и о зачислении его в резерв.
Рухнули все надежды Гейнца. По существу это был не только крах его карьеры, его мечты достигнуть наполеоновского величия, это было полуофициальным признанием краха теории молниеносной войны. Фюрер больше не верил в эту теорию, не верил в людей, создавших ее, но не сумевших осуществить на практике. Не случайно Гитлер всего неделю назад повысил в должности старого недруга и соперника Гудериана фельдмаршала фон Клюге, назначив этого сторонника медленных и планомерных действий командующим группой армий «Центр». Было ясно, что теперь фельдмаршал использует свои возможности, чтобы отомстить Гудериану за многочисленные неприятности. Но Гейнц, сам не раз подставлявший ножку соперникам в борьбе за власть, не ожидал, что фон Клюге нанесет ему удар такой силы и так быстро.
Фельдмаршал сразу же обвинил Гудериана в невыполнении приказа об удержании до последнего солдата каждого населенного пункта. Такой упрек можно было бросить сейчас любому немецкому генералу. Приказ не выполнялся по той простой причине, что русские не давали возможности остановиться и закрепиться, путали своим быстрым наступлением все планы. Но фон Клюге обвинил только Гейнца.
Формально фельдмаршал был прав. Обозленный таким поворотом дела, Гейнц резко поговорил с фон Клюге. Тот немедленно доложил фюреру о конфликте и неповиновении. Результатом явилось то, что 20 декабря фюрер вызвал Гудериана для личной беседы. Пришлось вылететь в Растенбург.
Беседа продолжалась пять часов с двумя перерывами: на обед и для просмотра кинохроники. Гитлер сам не ездил на передовую. Он избегал риска. Его жизнь была слишком нужна Германии. Он представлял себе современный бой по донесениям и кинокадрам. Но все равно Гудериану было очень трудно возражать фюреру.
Гейнц оправдывал отступление недостачей сил и средств, а еще тем, что нет возможности в широких масштабах строить укрепления, рыть траншеи и блиндажи. Земля промерзла, фортификационные работы требуют много людей и времени. Гитлер оказал на это: нужно использовать здания в населенных пунктах, особенно подвалы. Нужно строить укрытия из снега и льда. Во время прошлой войны, когда он сам был рядовым, замерзший слой земли разбивали снарядами крупных калибров, а потом пускали в ход кирки и лопаты. Снаряды и взрывчатку можно не жалеть.
Гудериан мог бы объяснить, что линия фронта слишком длинна, не хватит ни орудий, ни боеприпасов для осуществления предложений фюрера. Россия – это не Франция, земля там промерзла настолько, что снаряды не проникают глубоко и оставляют очень мелкие воронки, Но он не хотел раздражать Гитлера. Он должен был добиться главного: разрешения отвести свои войска на рубеж рек Оки и Зуши.
Фюрер не одобрил план отхода, но обещал подумать над этим. Во время перерыва старый приятель полковник Шмундт, главный адъютант Гитлера, посоветовал Гейнцу не настаивать на своем. Фюрер сейчас обозлен неудачами и особенно вспыльчив. Он ищет генералов, способных поправить дело. Гудериан по-прежнему пользуется авторитетом, но у него слишком много врагов и завистников.
– Я готов сделать для вас все, что сумею, – любезно предложил Шмундт.
– Спасибо, но помочь себе способен сейчас только я сам. А для будущего мне хотелось бы знать, кого, кроме фон Клюге, я должен буду отблагодарить за услуги.
– Дорогой генерал, разве в этом дело! Вы сами знаете своих недоброжелателей. Но главным образом виноваты во всем русские. – Полковник говорил несколько развязно, и Гудериан отметил это как плохой признак. – Примите дружеский совет, мой дорогой генерал. Если обстановка на фронте в ближайшее время не изменится к лучшему, постарайтесь вспомнить о какой-нибудь своей болезни. Вы устали и можете попроситься на отдых, как сделал фельдмаршал Бок.
– Да, – ответил Гудериан. – Я подумаю над этим, но не сейчас.
Возвратившись в Орел, в свой штаб, Гейнц попытался сразу же добиться хотя бы небольшого успеха, чтобы повысить свои акции. Он бросил навстречу русским резервы: саперные подразделения, строительные отряды и несколько десятков отремонтированных танков. Но неудачи роковым образом преследовали его. Пехотные дивизии отступали от Тулы не на запад, а на юг, на Белев: между войсками танковой армии и соседями слева образовался большой разрыв, в который немедленно вошли подвижные части русских. 24 декабря эти части переправились через Оку. Теперь невозможно было организовать оборону даже на том рубеже, о котором Гейнц говорил с фюрером.
Это произошло в первый день рождества. А на другой день русские преподнесли Гудериану еще один «подарок» – окружили в городе Чернь 10-ю моторизованную дивизию. Ей удалось вырваться из кольца с очень большими потерями, бросив тяжелое оружие. Вероятно, все эти новости фельдмаршал фон Клюге сообщил Гитлеру. Результаты не замедлили оказаться…
Еще утром Гудериан был полон энергии, надеялся исправить положение. А теперь он лежал на кровати опустошенный, разбитый физически. Гейнц привык повелевать, привык ощущать свою значимость. А теперь он был уже никто и ничто. И он сожалел, что сразу не воспользовался советом Шмундта. Уйти в отставку по болезни – это еще полбеды. Но быть снятым с должности без нового назначения – это позор. Значит, Гейнц находится отныне в немилости у фюрера. Многие бывшие друзья постараются держаться от него в стороне. Он и сам поступал так же в подобных случаях. В жизни господствует волчий закон. Расталкивай и прорывайся вперед, пока есть силы. А если упал, не проси помощи, не, цепляйся за чужие ноги: тебя затопчут. Лучше поскорей уползи в сторону.
Да и есть ли у него друзья? Полковник Шмундт? Какая там дружба – они просто извлекали взаимную выгоду из своего знакомства. Подполковник Либенштейн? Гейнц никогда не понимал до конца своего проницательного и выдержанного начальника штаба, привыкшего ко всему, делился сокровенными мыслями. Либенштейн – порядочный человек, которому можно верить, и только. Этот аристократ о многом имел свое скрытое мнение. Барон достаточно обеспечен, и ему, вероятно, было безразлично: служить ли Гитлеру или другому правительству. Он не зависел от фюрера, как зависели те, кто был поднят Гитлером на высокие посты из низов.
Последнее время Либенштейн замкнулся, разговаривал с Гейнцем только о том, что касалось службы. Он умел тонко и твердо провести грань между деловыми и личными отношениями. Раньше Гудериану некогда было подумать, почему возникло такое отчуждение. Глядя на холеное лицо Либенштейна, выражавшее сейчас не искреннее огорчение случившимся, а только казенное сочувствие, Гейнц вспомнил, что давно уже имел возможность повысить барона в звании, ведь он занимал генеральскую должность. Не позаботился Гейнц и о том, чтобы достойно наградить начальника штаба, который работал отлично и во многом помог ему.
Вероятно, в этом и кроется причина теперешней замкнутости Либенштейна. А может быть, он поспешил отмежеваться, почувствовав, куда дует ветер? Впрочем, это не имело никакого значения. Лучше вспомнить что-либо хорошее, успокаивающее. Есть очень верное изречение Клаузевица, вполне применимое к сложившейся обстановке. Но как у него сказано?..
Гудериан тяжело повернулся на кровати, спросил:
– Барон, вы помните, что писал Клаузевиц о последнем этапе наступления?
– Разумеется, – подполковник сразу понял, какую цитату хочет услышать генерал. – Положение наступающего, находящегося в конце намеченного им себе пути, часто бывает таково, что даже выигранное сражение может побудить его к отступлению, ибо у него нет уже ни необходимого напора, чтобы завершить и использовать победу, ни возможности восполнить понесенные потери.
– Не мы первые оказались в таком состоянии, – со вздохом произнес Гудериан.
– Да. Но об этом следует помнить в самом начале кампании.
Ответ не понравился Гейнцу: в нем звучала ирония. Однако генерал промолчал. Он даже подумал, что к этому надо привыкать, что теперь каждый способен бросить в него камень.
Либенштейн сам отпечатал на бланке приказ. Гудериан поднялся, нетвердо ступая, подошел к столу. Приказ был невелик, но генерал не прочитал его весь: даже это было теперь безразлично ему. Он только пробежал глазами первые и последние строки.
Командующий 2-й танковой армией Штаб армии. 26.12.41 г.
ПРИКАЗ ПО АРМИИ
Солдаты 2-й танковой армии!
Фюрер и верховный главнокомандующий вооруженными силами освободил меня с сегодняшнего дня от командования…
Я мысленно буду с вами на вашем трудном пути!
Вы идете по этому пути за Германию!
Хайль Гитлер!
Последняя фраза звучала издевкой. Гейнц не испытывал никакого желания благодарить фюрера и тем более превозносить его. Но Гудериан знал, что Гитлер обязательно ознакомится с этим приказом, и не простит, если в нем не будет тех слов, которые немец должен повторять, даже умирая.
Гудериан крепче сжал ручку, чтобы незаметно было, как дрожат пальцы, и старательно вывел свою подпись.
– Вот и конец, – тихо произнес он. – Либенштейн, я очень прошу вас: распорядитесь, пусть запакуют мои вещи.
* * *
Шофер Гиви выжимал из старого «газика» все, что можно. Километра три-четыре машина с бешеной скоростью неслась по обледеневшей дороге; на поворотах забрасывало вбок кузов. Потом – резкий скрип тормозов и остановка. То регулировщик на развилке перекроет путь, то забуксует на подъеме тяжелый грузовик с красным флажком, везущий боеприпасы.
День выдался удивительно яркий. Солнце висело очень высоко в льдистой прозрачной голубизне, тепло от него не доходило до земли, но свет лился щедро, заставляя сверкать белым огнем сухой снег, окутывая розовой кисеей дальние леса и возвышенности. Мороз в безветрии не сразу давал себя знать. Сперва только пощипывал игриво щеки да нос, а едва зазеваешься – сразу выбелит на лице кожу, прихватит суставы пальцев.
Шоферы выскакивали из машин громоздкие, неуклюжие, в полушубках поверх шинелей и ватников. Кучерявились белым инеем шапки и воротники. Согреваясь, водители толкали друг друга, притопывали валенками, взятыми на рост, под две портянки, оглушительно хлопали рукавицами. Далеко в поле разносились веселые крики, визг намотанных на колеса цепей, фырчание моторов.
Зима установилась самая что ни на есть настоящая, лихая, русская! Радостно было людям в этот светлый, будто праздничный, день катить мимо пышных сугробов, мимо густой зелени придорожного ельника, мимо обдутых бугров, желтеющих от жнивья. Ведь ехали не куда-нибудь, ехали на запад, преследовали немца!
И такое настроение было у людей, что все нипочем. Не пугали разбросанные фашистами мины, не пугал мороз. Шоферы делились друг с другом бензином и сухарями, скопом вытягивали застрявших.
Встречные ребята, гнавшие к окладам порожняк, говорили, что отбросили немца к Оке и за реку быстро уходят наши полки. Ждали на передовой снарядов, ждали патронов. Некогда было шоферам отдохнуть, организовать горячее варево. Спешили к своим, забывая про усталость, благо мороз не давал засыпать за рулем.




