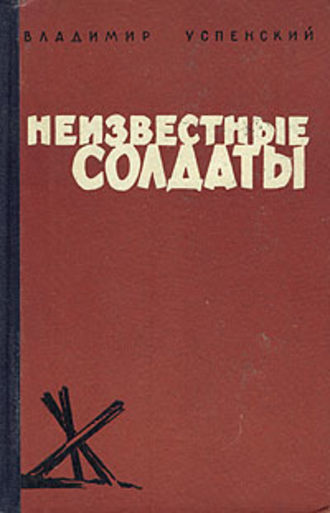
Владимир Успенский
Неизвестные солдаты, кн.1, 2
Он начал отползать вглубь леса. Осторожно, потихоньку, метр за метром. Задержавшись среди кустов, разорвал комсомольский билет. Особенно тщательно – фотокарточку и первую страничку, чтобы нельзя было собрать и склеить. Потом порвал документы.
Листовки-пропуска запали далеко в сапог, он никак не мог достать. Руки были мокрыми, скользили по голенищу. Озираясь по сторонам, Ракохруст тянул сапог, но сапог не снимался, ноги набухли от жары и ходьбы. Тогда Пашка дернул с такой силой, что треснул задник. Вытащил смявшийся листок и снова услышал голоса немцев. Они быстро приближались к нему.
Пашка не мог больше переносить страх. Чувствовал, что сейчас закричит, завизжит от ужаса. И тогда он вскочил и пошел навстречу немцам, держа в одной руке сапог, а в другой – листовку. В голове колом стояла мысль: только бы они поняли, что сдается, только бы не стреляли.
Обогнул куст и замер: немцы были рядом. Высокий фашист резко повернулся на шум и вскинул автомат. Стекла очков пламенем блеснули на солнце. Пашка почти потерял сознание.
Но фашист не выстрелил. Он подошел к Пашке, взял из его рук листовку, прочитал и засмеялся, с интересом разглядывая Ракохруста. Пашка глупо улыбался, а его белые губы кривились и дрожали.
– Их… Их… Я сдаюсь, – сказал он.
Вокруг собралось уже много немцев. Пашка был выше их всех и шире в плечах, только очкастый почти не уступал ему. И Пашка со страхом подумал, как бы немцы не рассердились на него за то, что он такой большой. Он заискивающе смотрел в лицо очкастому, слушая его хриплый голос и догадываясь, что это командир. А очкастый говорил, обращаясь к своим солдатам.
– Этот парень поступил разумно. Не трогайте его. Таких здоровых людей нельзя убивать. Такие здоровые люди должны работать. Я бы хотел, чтобы у меня был такой батрак… И у меня будет такой батрак… Ганс, переведи ему: пусть обуется и идет с нами.
* * *
Комиссара похоронили в мелколесье, среди кустов боярышника и крушины. Виктор выбрал место на взгорке, откуда видна была дальняя даль; зеленый разлив лесов, прорезанный голубыми извивами речки, квадраты полей.
Жаркое солнце стояло высоко над землей, выжигая ее иссушающим зноем. У горизонта над синими холмами зыбился и плыл раскаленный воздух.
Красноармейцы подкатили к могиле большой белый камень, поставили его возле холмика быстро засыхавшей земли. Штыком глубоко выцарапали надпись:
ПОЛКОВОЙ КОМИССАР КОРОТИЛОВ ПАЛ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ В БОЮ С ФАШИСТАМИ 3. VII – 41 г.
Дали три прощальных винтовочных залпа и пошли медленно, часто оглядываясь. Долго еще был виден бойцам среди яркой зелени на возвышенности одинокий белый камень-горюн.
Отряд, собранный комиссаром, рассыпался на отдельные группы. Основное ядро с уцелевшими повозками и пушками ушло на юго-восток. Танкисты отправились по лесам вдоль железной дороги.
Коротилова вынесли из боя красноармейцы первой роты, они помогли Виктору похоронить комиссара. Красноармейцев было человек пятьдесят, да еще в лесу прибились к ним одиночки. Как-то само собой получилось, что эту группу возглавил Дьяконский. Саперы из первой роты знали его. Может быть, думали так: сержант все время был с комиссаром, сержанту известен маршрут. И сам Виктор чувствовал ответственность перед людьми, будто на его плечи легла часть того груза, который нес на себе комиссар.
Шестьдесят семь человек, среди них двух лейтенантов и старшину-сверхсрочника повел за собой Виктор. На коротком привале приказал составить список, разбил людей на три взвода, выявил количество боеприпасов и продуктов, назначил ответственных за хранение. И лейтенанты, молодые парни весеннего выпуска, и пожилой старшина охотно подчинились ему, младшему по званию. Как это ни странно, у Виктора было глубокое внутреннее убеждение, что так и нужно, так и должно быть, потому что он справится с делом лучше их. Ему доверяли красноармейцы, а сейчас это было главным.
Дьяконский выбрал общее направление на Слуцк и дальше к реке Припять. Это был необычный маршрут, почти прямо на юг. В те дни все, кому удалось вырваться из кольца, да и окруженные внутри кольца – все двигались на восток с некоторым отклонением к югу или к северу, выискивая кратчайший путь к своим. Никто не знал, как далеко продвинулись немцы и как выглядит линия фронта. Не знал этого и Дьяконский. Но, поразмыслив, решил, что путь на юг самый надежный. С восточной стороны кольца немцы выставили, конечно, наиболее сильный заслон. В той стороне – густонаселенные места, дороги, города, там больше немецких войск. А в бездорожном болотистом Полесье фашистов наверняка нет.
За Слуцком красноармейцы повеселели. Днем, не таясь, заходили в деревни. Немцев здесь не бывало, они двигались северней. В лесных деревнях народ томился неизвестностью. Кое-где еще работали сельские Советы, но районные власти уже выехали на восток.
Местные жители – полищуки – уверяли, что советские войска стоят возле городов Пинск и Лунинец, держат фронт на железной дороге. Добровольцев, желающих провести туда отряд, было хоть отбавляй: из деревень подальше от немцев уходила молодежь, туда же гнали колхозные стада, небольшими обозами тянулись беженцы.
Виктор спешил. Сокращал привалы. Красноармейцы пообносились, пообтрепались, многие побросали развалившиеся, сопревшие сапоги, шли кто босиком, кто в домашних чувяках, взятых у сердобольных крестьянок, а кто в лаптях. Расползались разъеденные потом черные от грязи гимнастерки. Только оружие блестело у всех, Дьяконский требовал, чтобы бойцы ежедневно перед отдыхом чистили винтовки и трофейные автоматы. И там, где позволяла обстановка, вел он красноармейцев не гуртом, кое-как, а строем, потому что при всех условиях было это не просто сборище людей, а маленькая частичка армии.
Ранним утром, едва вышли с очередной ночевки в лесу, увидели с пригорка впереди на дороге пятерых всадников. Ехали они медленно, осматриваясь, перекинув поперек седел карабины. По гимнастеркам, по тому, что не было на конниках погон, сразу узнал – свои! Сломали строй, бросились навстречу, махая руками, крича. И Виктор тоже бежал вместе со всеми, забыв, что он командир и что надо было бы остановить бойцов.
До чего же родными были они, эти молодые курносые ребята в новенькой форме, с саблями на боках. Их, растерявшихся от смущения, стаскивали с коней, обнимали, заглядывали в глаза, забрасывали вопросами.
А когда схлынула первая буйная волна радости, командир конного дозора, немолодой старшина с орденом Красной Звезды на гимнастерке, сказал притворно-сердито:
– Было чуть не постреляли вас. Вывалились, как черти из подворотни. И откель вы взялись, голодранцы такие? Чи то не воинство батьки Махно?
И на это старшина-сверхсрочник из отряда весело и дружелюбно ответил кавалеристу:
– А вот пропер бы ты пехом от самой границы, ты бы тогда таких вопросов не задавал. Потому как после такого похода не лошадиной, а своей природной головой думать бы начал.
* * *
– Лейтенант, подбрось пару горячих!
Бесстужев зачерпнул деревянным ковшом воду из кадки, плеснул на раскаленные каменья. Шипящая струя пара ударила в низкий, закопченный потолок, растеклась по стенам, оседая вниз.
– От так его, так его! – покряхтывал на полке Патлюк, охаживая веником красное, глянцево блестевшее тело. – Это по-нашему, по-солдатски! Лезь сюда, Юрка!
– А у вас, у меня и тут тропики, дышать нечем.
– Хватит, Патлюк, ей-богу хватит, – попросил майор Захаров, лежавший лицом вниз на широкой скамье.
Блаженно улыбаясь, шевелил пальцами ног. К нахлестанной спине прилипли мелкие березовые листочки, темные, будто из старой бронзы.
– Значит, расписались оба?! До точки дошли! – скалился наверху Патлюк, тряся свалявшимся чубом. – Будете знать наших! У нас в селе меня только дьячок по этому делу одолеть мог. Старый дьявол, колесом согнулся, мослы мхом обросли, а париться на весь уезд первым был.
– Иди-ка ты мне спину потри, – размякшим голосом попросил Захаров. – А хорошо-то как, а? Как сто грехов с себя смыл.
– После такого дела самый раз стопку пропустить. Две стопки, – поправился Патлюк. – Да с малосольным огурчиком.
– Не-е-ет, капитан, после баньки пивка полезно. Холодного, жигулевского.
– Хозяйка оказала, что сразу, обедом кормить будет. – Бесстужев намыленной мочалкой тер худые, по-мальчишески длинные руки. – Не знаю, как насчет пива, а квасом угостит.
– Слушай, ты хоть рассчитайся с ней, – беспокойно приподнялся майор. – И кормит она нас, и мытье это затеяла.
– С ней рассчитаешься, – хмыкнул Бесстужев. – Не берет деньги. Сама, говорит, солдатка, и мой где-то горе мыкает… Сена мы ей накосим. Ну, Мухов, сержант мой, печку ей поправляет…
– Печку, сено, – передразнил Патлюк. – Да на кой ляд ей печка эта, она за красивые твои глаза и клуню опорожнит, и что хочешь сделает. Баба молодая, кровь горячая. Вчера вечером спрашивает меня: а чего-то лейтенант ваш такой конфузный… Она ему, значит, в горнице у себя постелила, а он в сарай к ребятам ушел. Тут, брат, не сеном пахнет… Только не пойму я, Юрка, почему на тебя бабы заглядываются?
– Душа у него прозрачная, – сказал Захаров. – А женщины не чета нам, умеют в человеке свежесть чувствовать, чистоту.
– Это они могут – всякую чистоту загрязнить, – заметил Патлюк.
– Оставьте, – взмолился Бесстужев, – ну, ей-богу, больше не о чем говорить вам, что ли?
– Чудак-рыбак! – хохотнул Патлюк. – На отдыхе только об этом и потолковать. Ты вот везучий, тебе бабьи крепостя без боя сдаются, потому ты и равнодушный такой. А я вот как ни петушусь, и чищусь, и бреюсь, и прическу шик-блеск отрастил, а бабы и ухом не ведут.
– Это потому, что у тебя сердце затвердело, – опять пояснил Захаров. – Устав, служба и никакой лирики нет. К тому же чувствуют, что ты женатый и многодетный…
– Так уж и чувствуют? – усомнился Патлюк.
В баньке было полутемно. Свет проникал через узенькое, продолговатое оконце, вырубленное в бревенчатой стене; стекло густо покрывала копоть. Юрий смотрел в оконце, и ему представлялось, что сейчас совсем не лето, а зима, на улице лежит снег и нет никакой войны. Просто попали они на постой в деревню, решили помыться после дальней дороги.
Не верилось, что вчера утром был бой и в двух шагах от Юрия упал красноармеец; осколок снаряда, как бритвой, срезал ему затылок. Все это отодвинулось в туманное и, казалось, далекое прошлое.
Их полк, вместе с другими разрозненными частями, медленно отходил через Полесье вдоль единственной в этих местах железной дороги Брест – Мозырь.
Бойцы разрушали за собой мосты и железнодорожное полотно, это задерживало немцев; вслед за полком двигались только их легкие передовые отряды, наскоки которых удавалось отражать без особых трудов. Но постоянное напряжение, жара, бессонные ночи и частые налеты авиации вымотали красноармейцев. И только вчера они, наконец, прошли в районе Пинска через боевые порядки 75-й стрелковой дивизии, занявшей здесь оборону. Полк получил долгожданный отдых. Красноармейцы стирали гимнастерки и портянки, купались в ручье, отмывая черную, прикипевшую грязь. Захаров, Патлюк и Бесстужев остановились в одном дворе. Утром проснулись поздно. Возле каждого лежала стопкой выстиранная и отутюженная форма, чистые трусы, майки и подворотнички. Это старшина Черно вод расстарался за ночь вместе с хозяйкой. Едва позавтракали – и мыться.
Банились часа полтора. Не спешили уходить: как только наденешь форму, снова наплывут заботы, снова присосется к сердцу ноющая тревога.
Майор Захаров был в полку самым старшим не только по званию, но и по возрасту. С взятыми на себя обязанностями командира он справлялся без затруднений. К тому же полк, понесший потери, оставшийся без артиллерии и обозов, был сейчас меньше полностью укомплектованного батальона.
Захаров имел привычку делать все основательно, не спеша. Мозги у него тяжелые, как жернова, работали медленно, зато все, что попадало в них, размалывали в порошок, добирались до самой сути. И теперь, чем дальше отодвигался в глубь страны фронт, тем неотвязней вставал перед ним один и тот же вопрос: почему?
Вначале Захарову казалось, что отступление происходит из-за досадных неудач: не успели сообщить о начале войны, не подвезли патроны, в Бресте отрезан был штаб их дивизии. Но постепенно майор убеждался, что дело тут не в случайностях, что где-то допущены крупные просчеты и исправлять их, как водится, придется солдатской кровью. Он тревожился, как человек, который знает, что болен, но не может понять, какова его болезнь и как ее лечить.
На лицах командиров и красноармейцев майор видел немой вопрос: в чем дело? Когда это кончится? Но Захаров не мог, не знал, чем рассеять недоумение подчиненных. И в конце концов это не его обязанность раздражением думал он. Этим должен был заниматься новый комиссар полка, старший политрук Горицвет. Но Горицвет все прихварывал. Сперва у него болела нога, а последние дни жаловался на зубы, полоскал рот шалфеем и говорил с трудом. Захаров подозревал, что Горицвет не столько болен, сколько растерян. Он не получал руководящих указаний, не знал, как вести работу, и предпочитал помалкивать, чтобы не ошибиться.
Да, Горицвет был сейчас не помощник…
В горячке первого боя Захаров выдвинул на должность комбата капитана Патлюка. Был Патлюк неплохим командиром, исполнительным, дисциплинированным, умел сойтись с красноармейцами. Но отступление быстро меняло характер бравого капитана, до сих пор свято верившего в непогрешимость начальства. Поражение выбило его из колеи. Жена капитана с двумя детьми, сама на восьмом месяце беременности, за неделю до войны уехала к родичам на Черниговщину, а теперь фронт быстро отодвигался в том направлении; не было гарантии, что немцы не доберутся до родного села Патлюка. Капитан нервничал.
К Бесстужеву Захаров относился с добродушной насмешливостью. Ему нравился этот молодой, румяный и очень серьезный лейтенант, нравилась его привычка шевелить бровями во время раздумья. «Устами младенца глаголет истина», – шутил Захаров, советуясь с лейтенантом, но к мнению Бесстужева прислушивался. Это Бесстужев посоветовал послать кого-нибудь в Пинск, узнать через коменданта, где сосредоточивается их дивизия или их армия. Захаров откомандировал Патлюка – капитан напористый, сумеет добиться у тыловиков своего…
Вскоре после обеда Патлюк подседлал единственную сохранившуюся у артиллеристов лошадь и ускакал.
Жаркий день проходил медленно. Солнце словно расплавило воздух, он казался текучим; плыли и колебались в нем вершины деревьев, кольцом окружавших поселок и станцию. Из леса тянуло до приторности густым настоем смолы.
Юрий пошел в сад, прилег под яблоней. Едва начал дремать, кто-то приблизился к нему, сел рядом. По легкости шагов, по шуршанию юбки догадался – хозяйка. Не шевельнулся, притворяясь спящим. Она чуть коснулась ладонью его волос, тихо вздохнула. От теплого запаха нагретой кожи, от робкого ласкового прикосновения у Юрия перехватило дыхание, дрогнули веки. Он потянулся, открыл глаза.
– Заснул, командир? – У женщины напряженный, ломкий голос.
Сидела она боком, спрятав под широкой юбкой поджатые ноги. У нее было красивое лицо: чистая смуглая кожа, тонкие, но яркие губы, светлые, как прозрачные озерки, глаза. Волосы причесаны гладко, с прямым пробором, собраны сзади пучком. Природа наделила ее хорошим лицом и обидела всем остальным. Она была очень худа, руки и ноги как палки, тонкие и прямые, плечи очень узкие, шея длинная. Грудь едва-едва обрисовывалась под кофточкой. Не верилось, что у нее есть ребенок. Она при Юрии старалась казаться развязной и грубоватой, но это получалось у нее плохо, она сама стеснялась и заставляла Бесстужева смущаться от этого. Юрию было почему-то жаль ее.
– Командир, молока хочешь? – спросила она.
– Спасибо. Потом, если можно.
– Да ты лежи, лежи! – испугалась она, заметив, что он сделал движение, намереваясь подняться. – Что надо – скажи, я принесу. – И, залившись румянцем, предложила вдруг: – Можно, я с тебя сапоги стащу, а?
– Да вы что?! Что это вы! – Юрий сел от неожиданности. – Да что я, барон какой или рук у меня нету?
– Ну вот, – неестественно засмеялась она, не глядя на него. – Сразу видно, что жена у тебя балованная…
– Ничего не балованная. Просто это нехорошо.
– А может, и в этом радость… – Она недоговорила, махнула рукой. – Любишь жену-то, а?
Бесстужеву не хотелось с чужой женщиной говорить о Полине. Кивнул на запад:
– Она там осталась…
У женщины быстро менялось выражение лица: все ее чувства отражались на нем. Подобрели глаза, и голос стал мягче.
– Ты не убивайся, не одна она там… И сюда немец придет скоро. Придет, а? Он тут небыстро двигается, леса его держат…
– Не леса, а войска, – обиделся Юрий.
– Придет, проклятый, – сокрушенно покачала она головой. – Старик мой приказывал, чтобы я в крайности отступила. А как отступишь с ребенком?
– Что за старик?
– Да мужик мой. Тридцать семь ему, вот и зову так.
– Эге-ге! – удивился Бесстужев. – Да что же ты за него пошла, вдвое старше?!
– А кто бы меня взял? Все ищут покрасивше да в теле. – В голосе ее звучала давняя обида. – Вот и ты тоже, командир, смотреть не хочешь. Спасибо хоть не гонишь – рядом сижу.
– Ну, глупости, – задвигал бровями Юрий. – Хорошая вы.
– Нравлюсь?
– Я как о человеке, прежде всего.
– А я прежде всего женщина. Баба, обыкновенная баба! – почти выкрикнула она. И вдруг спохватилась, виновато угнула голову. – Я ведь про любовь-то только в книгах читала. Ну и решила, что выдумывают все. Нету этой самой любви. Живут просто так люди. Мне вот мужики неприятны, смотрю и думаю, все они на одну колодку… А вот ты уйдешь, по тебе тосковать стану…
– Да с чего же?
– Не знаю, – искренне вздохнула она. – Меня и в школе чудной считали. Да я и сама чувствую. У людей правильная линия, как впряглись, так и везут. А я все чего-то ищу, все жду чего-то. А чего не знаю. И хорошо это – ждать. Старик говорит: ты, Зойка, скачками живешь… Он, бывало, все в разъезде, а я одна и все думаю… А тебя я сколько раз во сне видела!
Бесстужев засмеялся:
– Быть того не может, чтобы именно меня!
– Правда, – сжала она его руку. – Молодой, беленький командир и строгий.
– Да я не строгий, – возразил развеселившийся Юрий. Говорить с женщиной было интересно: бесхитростная, открытая, а мысли прыгают, как белка в колесе.
– Товарищ лейтенант, – услышал он за спиной насмешливый, торжествующий голос, заставивший его сжаться и покраснеть, будто его застали на месте преступления. Он вскочил. За кустом крыжовника стоял старший политрук Горицвет. – Товарищ лейтенант, вы, конечно, как всегда, ухаживаете за женщинами. Но на этот раз я прерву ваше удовольствие. Немедленно соберите в штаб всех командиров и политруков. Через двадцать минут доложить об исполнении. Все.
Горицвет удалился. Прямой, высокий, вышагивал подчеркнуто спокойно. Под мышкой держал свернутую в трубку газету. «Откуда его черт принес, – ругался Юрий. – Слона из мухи раздуть – это он всегда сможет… А, пропади он!» – Бесстужев повернулся к женщине, положил руку ей на плечо:
– Вот видите, какой я. Соблазнитель, всегда с женщинами…
Она усмехнулась, покачала головой и сказала спокойно:
– Этот человек очень тебя не любит. И очень тебе завидует.
– Может быть. Но поговорить нам он не дал, это факт.
– Вечером? – тихо сказала она, спрашивая глазами.
– Ну потом, когда освобожусь, – смутился он.
Не оглядываясь, пошел к сараю, где отдыхали выделенные от рот связные…
Командиры и политруки собрались в просторной горнице, с цветами и белыми занавесками на окнах. Стены бревенчатые. На них пожелтевшие от времени фотографии в самодельных рамках. Чисто вымытый пол устлан пестрыми лоскутными дорожками. Майор Захаров предупреждал всех, чтобы вытирали ноги.
Многие догадывались, зачем их собрали в штаб. Еще со вчерашнего дня бродили слухи о каком-то важном сообщении. А сегодня Патлюк привез из Пинска последние номера газет.
Горицвет оделся по-праздничному. Пострижен и выбрит, пуговицы блестят. На правой щеке – присыпанный пудрой порез. Движения медлительны, голос торжественный.
– Товарищи, я пригласил вас сюда, чтобы довести до вашего сведения радостную новость. Вчера, третьего июля, по радио выступил Иосиф Виссарионович Сталин. Он обратился с горячей речью ко всем нам, ко всему народу. Мы должны в первую очередь глубоко изучить эту речь, ясно и выпукло оценивающую сложившуюся обстановку. Мы должны донести ее до сознания каждого сержанта и каждого красноармейца.
– Ну, завел преамбулу! Читал бы скорей! – нетерпеливо шепнул Юрию сосед, командир третьей роты.
Горицвет бросил в его сторону осуждающий взгляд. Он будто нарочно медлил, разжигая нетерпение.
Юрию было неприятно, что важные, значительные слова Сталина, которые должны объяснить все, развеять тяжелые думы, он услышит от Горицвета. Было неприятно смотреть на его самодовольное, вытянутое лицо, на его крупные, желтые зубы. Вероятно, они у него действительно болели – давно не чистил.
Горицвет кашлянул, поверх газеты обвел всех взглядом, остановился на Захарове. Тот кивнул: давай!
Начало речи было необычным для Сталина, было проникнуто такой теплотой, что Юрий почувствовал, как у него повлажнели глаза. И подумалось: значит, трудно, значит, действительно стряслось необыкновенное, если Сталин обращается к ним с такими словами.
Покосился на товарищей: все в напряженном внимании. Только Захаров спокоен. Глаза полузакрыты, склонил на руку голову с растекшейся по волосам сединой – слушает.
Горицвет читал о том, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения. Но враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы…
Капитан Патлюк, прочитавший в Пинске речь три раза и уверившийся в том, что скоро наши двинут вперед и немцам будет крышка, на радостях выпил четвертинку водки и теперь сидел «верхом на стуле веселый, хитро щурил блестевшие глаза. Подмигнул Бесстужеву: вот как оно, слышишь!
Дальше в речи говорилось о том, что в бой вступают главные силы Красной Армии, вооруженные тысячами танков и самолетов. Наш отпор врагу крепнет и растет…
У двери шумно, с облегчением вздохнул старшина Черновод. Сконфузился, клетчатым платком прикрыл большой губчатый нос, будто боялся чихнуть.
Когда Горицвет начал читать о том, что надо делать при отходе: увозить ценности или уничтожать их, – внимание Юрия ослабло. Впереди было уже сказано глазное. Отступление носит временный характер. Немцы – агрессоры, окончательно подорвали свой международный престиж. Со дня на день их остановят на всем фронте… Ну и правильно. Можно сказать, что возле Пинска их уже остановили.
Юрий подумал, что он потерял в последнее время ощущение огромности своей страны. Отдавали немцам деревни и районные центры, отдавали с болью, будто куски живого мяса отрывали от себя. Эти потери заслонили все, все представлялось в черном свете. А ведь потеряно, в сущности, не так уж много. Немцы едва перешли нашу старую государственную границу. Страна еще только поднималась на борьбу.
Речь Сталина будто приподняла Юрия над поселком, над лесом, позволила охватить внутренним взором всю свою Родину, испытать бодрящее чувство слияния с ней. Вероятно, и другие командиры испытывали нечто подобное: для них будто раздвинулся горизонт, стала видна вся линия фронта, вся могучая и сказочная советская земля, с заводами и полями, с шумными городами и тихими деревнями, с ласковой голубизной рек и стальным блеском рельсов; земля в зеленом убранстве лета, спокойная и цветущая, только на западной окраине своей опаленная огнем войны, задымленная, почерневшая и обугленная там, где прошли бои.
Вечером над поселком ненадолго задержалась сизая тучка, покапал крупный и редкий дождик. Он прибил пыль и очистил воздух. Над старыми полысевшими соснами долго горела холодная красная полоса заката, а выше нее, до самого зенита, небо было зеленым: сначала бледным, почти бесцветным, потом краски загустели, потом в зелень влилась синева, быстро темневшая, вбиравшая в себя, расползаясь и ширясь, все другие оттенки.
Бесстужев вышел в сад, чтобы немножко побыть одному, покурить, послушать ночь. Он любил делать это давно, с самого детства. В каждом месте в разное время года ночь звучала по-своему. На окраине Вологды, где рос в семье тетки Юрий, ночь всегда наполнена была гудками маневровых паровозов, шипением пара, лязгом вагонных сцеплений. Весной и летом неуемно и нагло кричали лягушки. В Финляндии, хоть и пробыл он там несколько суток, врезалось ему в память: морозные ночи звенели леденящей тишиной, мягкие сугробы, облитые лунным мертвенным светом, гасили звуки. Выстрелы треща ли коротко и сухо, мгновенно глохли в разреженном воздухе.
В Брестской крепости ночь звучала людьми. Раздавались шаги часовых, уходили и возвращались дозоры пограничников, гудели машины, слышался конский топот – все время кто-то уезжал или приезжал. А ранним утром, едва синел рассвет, за окном начиналось оголтелое чириканье воробьев…
Бесстужев подошел к изгороди из длинных жердей. Рядом были грядки – пахло огурцами. Темно и тихо вокруг, нигде не видно огня, слышен только глухой, тревожный шум леса. Будто один-одинешенек стоял Юрий. Но так казалось только в первые минуты, пока не привыкли глаза и не обострился слух. Где-то звякнули ведра, тягуче проскрипели ворота. В соседнем дворе с запозданием доили корову, шикали в подойник струйки молока. С железной дороги доносился торопливый перестук колес проходивших составов: там пропускали в обе стороны скопившиеся эшелоны, прятавшиеся днем от авиации.
Глаза различали темные силуэты построек. Возле дома тенью двигался часовой. Бесстужев подумал: наверное, так же тихо сейчас и на улицах Бреста. Полина спит, прижавшись щекой к ладони правой руки, а левой обхватив колено. А может быть, и не спит, может быть, тоже стоит в темноте и думает о нем. Она теперь мучается неизвестностью и, конечно, плачет. Кто знает, может быть, тоска, сильные порывы души человеческой аккумулируются в какую-то неизвестную энергию и распространяются за сотни и тысячи километров, от одного полюса к другому, от любимого к любимому? Может быть, волны этой энергии достигли Юрия, заставили его выйти в ночь, думать о Полине, такой далекой и такой близкой в воображении? Она была в нем: ее голос, глаза, ее движения, ее теплота – он почти физически ощущал все это. Он верил сейчас, что чувства передаются на расстоянии…
Возле дома сменился часовой. Появилась на крыльце хозяйка в белой блузке. Постояла, всматриваясь, спросила о чем-то часового и направилась в сад. Юрию неприятно было, что женщина нарушила его одиночество.
– На чердак спать иду, – с легким смешком сказала она. – Вон лестница к стенке приставлена… Там у нас хорошо, только дверь не закрывается. – Она качнулась к Юрию, горячим лбом коснулась его щеки, отступила. – Ну, пойду я… Ночи-то теперь короткие.
– Да, – вздохнул Бесстужев. – Часа через три светать начнет.
Женщина не ответила, пробормотала что-то неразборчивое, быстро, сутулясь, пошла к лестнице.
Юрий прикурил. Огонь спички ослепил его. Подумал: хорошая она, эта Зоя. И, наверно, действительно невезучая. Вот и сейчас. Почему он ей понравился? Разве мало командиров, красноармейцев, холостых красивых ребят?
Крадучись, пошел мимо дома. Возле лестницы на чердак вздрогнул – почудилось, будто что-то скрипнуло наверху. Ускорил шаги, направляясь к сараю. Нес в душе неприятный осадок, словно обидел невольно слабого человека. У двери еще раз обернулся, посмотрел на темный дом, на чердак. Все тихо вокруг, везде спят. «Отдыхают. Один я полуночник!» – подумал он, расстегивая ремень.
Но в доме не спали. В трех душных комнатах, окна которых были наглухо завешаны одеялами, горели керосиновые лампы. Возле полевого телефона сидел дежурный командир и, мусоля карандаш, писал письмо. Майор Захаров, в майке, босой, склонив над столом голову, в который раз перечитывал речь Сталина, подчеркивая наиболее важные места.
На многих командиров и политработников эта речь подействовала ободряюще. А Захаров, изучая ее, находил в ней противоречия. По мнению Сталина получалось, будто мы выиграли оттого, что немцы первыми, нарушив договор, напали на нас. Германия добилась некоторого выигрышного положения для своих войск, но она, дескать, проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира как агрессор… Ну а раньше-то? И раньше весь мир знал об этом, знали народы завоеванных немцами стран, знал и наш народ… Нет, лучше, если бы у Германии не оказалось этого выигрыша – внезапности, лучше бы мы встретили противника на границе и ответили ударом на удар…
В речи сказано было, что многие дивизии немецко-фашистских войск уже разбиты, а главные силы Красной Армии с тысячами танков и самолетов еще только вступают в бой. Это очень хорошо, если так. Но если лучшие дивизии немцев разбиты, а наши главные силы только вступают в бой, то зачем подробно говорить о том, что надо делать при отступлении?
Вероятно, положение было очень тяжелым, и руководствоваться следовало указаниями второй части доклада. А первая половина – это для успокоения…
Дежурный по полку, увидев, что Захаров лег и погасил лампу, облегченно вздохнул. Можно надеяться, что ночь пройдет спокойно и он сумеет, наконец, написать письма всей своей многочисленной родне.
Теперь свет горел только в другой половине дома. Там жил Патлюк. Он засиделся с Горицветом. У обоих было хорошее настроение, оба хорошо потрудились днем. Горицвет сегодня вновь обрел почву под ногами, знал, что надо говорить людям.
Новости нельзя было не спрыснуть, тем более что капитан привез с собой из Пинска две поллитровки. Захаров, этот с начала войны спиртного в рот не брал, слишком рассудительный человек. Бесстужев для компании не подходит. Не любит, да и молод еще, больше двухсот граммов не несет. Пришлось пригласить Горицвета. Похохатывая, Патлюк расспрашивал его:
– В саду, значит, под кустиком? Он не промах, Бесстужев-то! Это я его в бане научил: атакуй, творю, в лоб хозяйку… А напугался он, наверно, когда тебя увидел?
– Испугался, – сказал Горицвет.
– Ну, факт. Он же твою натуру знает. Небось накапаешь теперь Полине? Наверняка накапаешь.
– Мой долг – поставить ее в известность.
– А зачем? У них тут, может, и не было ничего. Ты вот злобишься на Бесстужева, а, между прочим, за что? Он с твоей шеи ярмо снял, а на свою надел. Ты ему спасибо сказать должен.
– Разрушение семьи осуждается нашей моралью. И не забывай, что у меня имеется самолюбие.




