полная версия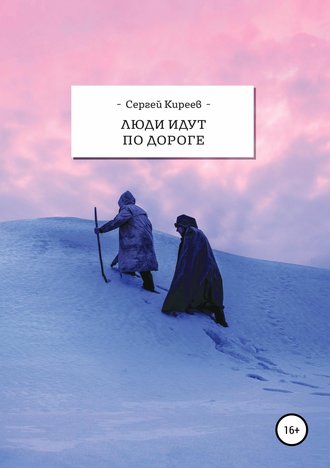
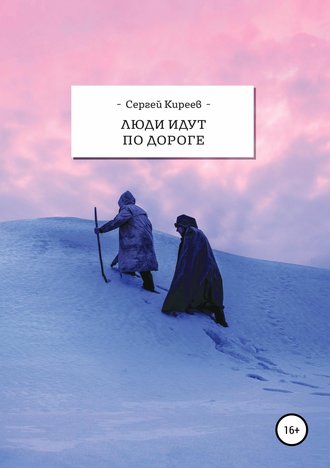
Сергей Владимирович Киреев
Люди идут по дороге
«Ой, да навек уснул дремучий…»
Ой, да навек уснул дремучий
Лес возле нашего села,
Ой, да крапивою колючей
К нам путь-дорога заросла!
В дальнюю даль по белу свету
Мчится, летит народ честной,
К нам, злым и хмурым, хода нету,
Нас объезжают стороной.
Ой, да в густые наши травы
Было кому навек упасть,
Ой, погуляли мы на славу,
Ой, поразбойничали всласть!
Вор, проходимец и повеса
Здесь так и шёл вприсядку в пляс, —
Эх, за оврагами, за лесом
Путь проложили мимо нас.
Там слёзы горькие не льются,
Там с песней звонкой, удалой
Всадники смелые несутся
Вдоль по дороге столбовой.
Ой, высока же та крапива,
Ой, стебли спутались, сплелись!
Эй, кто-нибудь, сюда, мы живы!
Эй, люд проезжий, отзовись!
Эх, нам уже буянить-драться
Трезвым и тихим, не с руки,
Пришлых пугать, самим бояться, —
Ой, так и сохнем от тоски!
Братцы, сюда! Никто не слышит.
В поле затерян волчий след.
Ветер вдали кусты колышет.
К нам никакой дороги нет…
1991
«Спят буржуи вечным сном в могилах…»
Спят буржуи вечным сном в могилах.
Надька бодрствует. За ней пришли.
Надька жмётся по углам уныло,
Узел тощий прячет в печь, в угли.
Понятые топчут пол, как в спячке.
Надька – первая из всех хапуг,
Брошка с яхонтом у ней в заначке
И подсвечников с резьбой семь штук.
Красотой её сражён до бреда,
Комиссар Серёжка в дурь попёр,
Он своим кричит: «Пошли отседа!
Грабишь вора – значит, сам ты вор!»
По вредителям шмалять ему бы,
А он Надьку, вон, ласкает, мнёт,
При свечах её целует в губы
И настойку из малины пьёт!
А она ему: «Давай-ка сядь-ка!»
И черешню ему в рот суёт.
Полюбила комиссара Надька,
Музицирует ему фокстрот!
«Ты чего от нас воротишь рыло? —
Из ЧК пришёл мордастый хам, —
Гувернанткой у графьёв служила
Распрекрасная твоя мадам!»
«Ну вас в баню, подлецы, паскуды! —
У Серёжки разговор простой, —
Я у Надьки отымать не буду
Брошку с яхонтом и хрень с резьбой!»
Руки за спину ему – в два счёта!
И недолго совещался суд:
За берёзами вдали болото,
Комиссара на расстрел ведут!
«Есть и будет то, что раньше было, —
Он конвою, веселясь, орёт, —
Меня Надька при свечах любила,
Музицировала мне фокстрот!
Вас не любят, значит, жизнь – на ветер!
Вы не любите – так жить на кой?
Значит, нету вас вообще на свете,
Все вы мёртвые, а я живой!»
Пахнет травами земля сырая,
Где-то в роще соловьи поют,
За околицей гармонь играет,
Комиссара на расстрел ведут!
Держит «маузер» усатый дядька,
Ясный месяц, как индюк, надут,
На завалинке рыдает Надька,
Комиссара на расстрел ведут!
Порыдала, пригубила морса,
И чекист, вон, сам, как граф, на вид,
Утешать её, подлец, припёрся,
«Ты иди ко мне, мадам!» – кричит.
Пир горою, пироги в корзинке,
Оба-двое самогонку пьют,
А Серёжку по крутой тропинке
Под конвоем на расстрел ведут!
Ох, и шпарит за окном трёхрядка!
У чекиста жар и трепет, зуд.
Пляшет, прыгает, хохочет Надька,
Комиссара на расстрел ведут!
…Ох, чечёточку чекист отстукал,
И, обшарив с фонарём сундук,
Брошку с яхонтом уносит, сука,
И подсвечников с резьбой семь штук…
1996
«Он землю родную оставить не в силах…»
Он землю родную оставить не в силах.
А ей – на чужбине искать новый дом.
У Керченской пристани в сумерках стылых
Они в целом мире – одни под дождём.
Последние части уходят из Крыма.
Никто никогда не воротится вспять.
И люди, бедою и ветром гонимы,
К причалам бредут среди пепла и дыма.
Эскадра на рейде. Пора отплывать.
Он мог бы, наверное, долю получше
Найти, и тоску, словно лёд, расколоть.
Она ему, тихо: «Прощайте, поручик,
Я всё понимаю. Храни Вас Господь!»
Отплыли. И явь позади хуже бреда.
И берег остался вдали, за кормой.
И красные будут всю ночь за победу
На площади пить и плясать под гармонь.
И кончится пир, и начнётся работа,
И будет похмелье, и грохот, и гам, —
Весёлые хлопцы, расстрельная рота —
Стуча сапогами, пойдут по домам.
И снежная крошка, и чёрные тучи
Над беглой эскадрой. И курс – на восток.
«Дай Бог уцелеть Вам, прощайте, поручик, —
Звучит напоследок, – храни Вас Господь…»
1995
«Дом достроить не смог он…»
Дом достроить не смог он;
Вон они под окном —
Трое в ряд – встали боком:
«Собирайся, пойдём!»
Ветер листья крутил
Над холодной рекой,
И уныло курил
У калитки конвой.
В доме снег, в доме холод,
Да стрижи гнезда вьют,
И земля вместо пола.
В доме люди живут.
Пёс вдогонку хрипел,
И под серой луной
Сапогами скрипел
У калитки конвой.
Эх, Сибирь, эх, Россия,
Пыльный тракт, как петля,
Да заборы кривые,
Эх, родная земля…
Ямы, пни тут и там,
Нет дороги домой.
И туман, и туман,
И конвой, и конвой…
…Хоть бы ветра глоток
Мчатся, мчатся – туда —
На восток, на восток,
Поезда, поезда.
Эх, тайга вековая,
Тьма и тьма, лес глухой,
Ни конца и ни края,
И конвой, и конвой…
1997
«Ты послушай, дочь, как плачет ветер…»
Ты послушай, дочь, как плачет ветер.
Твой дружочек лучше всех на свете.
Значит, рядом с ним беда,
И везде, всегда
Ему первому – все палки-плети.
Никуда вам от судьбы не деться.
С кем другим бы сговориться-спеться!
Лучше плохонького взять,
С ним ходить-гулять
Да на лавке возле печки греться.
Ветер тихого его такого
С ног не свалит, не согнёт в подкову,
Далеко не унесёт
От твоих ворот,
Не утащит от крыльца родного.
Ох, судьба его сломает, скосит.
Разлетитесь вы, как листья в осень.
Твой красивый, молодой
В стороне чужой
Головы своей лихой не сносит.
Вот и осень за окном лютует.
По дружочку слёзы льёшь впустую.
Даже ветер не узнал,
Где он сгинул, где пропал,
Свою голову сложил лихую…
1993
«Не скучай, народ, а ну…»
Не скучай, народ, а ну! —
Под хмельные вина
Провожала на войну
Мать родного сына.
Сколько их на край земли
Увезли без счёта?
Годы долгие прошли.
Снова дома, вот он.
Где, какая там война,
Знать никто не знает.
Он на лавке у окна
Время коротает.
За столом сидит один,
Зубы сжал покрепче.
«Что с тобой, скажи, мой сын? —
Мать в сторонке шепчет, —
Почему твой чуб седой
И на лбу морщины?
Ты от браги сам не свой,
От тоски-кручины.
Сердце в клочья искромсал
Хмель острее сабли,
Ты б друзей своих собрал,
С ними пел, плясал бы!»
«Мать, о чём ты, не пойму, —
С кем мы раньше пели,
Все друзья в огне, в дыму
Сгинули, сгорели.
Мать, поставь свечу на стол.
…С гор туман спускался.
Целый взвод в атаку шёл.
Я один остался.
Я их вижу, как живых.
Эй, пехота, где ты?
Нет со мной друзей моих,
Значит, жизни нету».
…За окошком чёрный лес
Одурел от стужи.
Ветер, ветер, пьяный бес
Над погостом кружит.
Волки воют на луну
Да скрипит осина.
…Провожала на войну
Мать родного сына…
1995
«Мы поутру, спозаранку…»
Мы поутру, спозаранку
Встать на работу не можем.
В доме разруха и пьянка,
Грязь и разбитые рожи.
Дом стоит, словно призрак проклятый,
Окна, окна в снегу у него,
Словно уши, забитые ватой.
Мы не слышим вокруг ничего.
На завалинке девки зевают,
Парни сладко на стульях храпят,
Завывает метель, завывает,
Снегопад на дворе, снегопад!
Странное что-то такое
Слышали раньше, давно мы:
Где-то вдали за горою
Люди живут по-другому.
Вот и встали, пошли – двое, трое:
«Эх, одним бы глазком посмотреть,
Что и как там у них за горою,
С ними вместе хоть что-нибудь спеть!»
Им вдогонку орут: «Хватит, братцы,
Все помрем, всё, что было, не в счёт,
За каким тогда лешим стараться,
Если вьюга следы заметёт!»
Ветки еловые гнутся.
Ветер вопит, вяжет ноги.
Люди по снегу плетутся.
Люди бредут по дороге.
«Пусть он долог наш путь, нескончаем,
И уют позабыт, и покой,
Нам конец, если мы не узнаем,
Что и как там за этой горой,
Где живут по-людски, не по-волчьи,
И без подлой и пьяной возни,
Стиснув зубы, работают молча,
И где помнят себя, чёрт возьми!
Говорят, там весёлые песни,
Не смолкая, под солнцем звучат,
А у нас день и ночь, хоть ты тресни,
Снегопад, снегопад, снегопад!»
Месяц кривой и убогий
В сумраке тлеет и тает.
Люди идут по дороге.
Вьюга следы заметает.
Пятки, ступни сбиты, стёрты.
Глотки горят от изжоги.
Людям кричат: «Хватит, стойте!»
Люди идут по дороге…
2001

С. Киреев (крайний справа) и его сибирская родня, 1972, г. Прокопьевск Кемеровской обл.
Раздел VI
В этот раздел вошли некоторые мои ранние песни.
«То улицей, то площадью…»
То улицей, то площадью
Утюжу землю отчую,
Ищу дорогу ощупью,
По швам трещат мозги,
Дороженька неведома
В закате цвета вермута,
Душа в пучину ввергнута,
Ой, Боже, помоги!
А мне судьбой завещана
Душевнейшая женщина,
С рассвета и до вечера
Подохни, но лобзай!
И груз кристальной честности
До смерти на плече нести,
И стиснутые челюсти
Скрипят, как тормоза!
Шальная, бестолковая
Башка моя дубовая!
Лимитчик из Тамбова я,
Собачья моя жизнь!
Опять мы с Колькой в штопоре,
Шарфы и шапки пропили.
Менты во тьму протопали,
Махнули мне: «Держись!»
Забуду имя-отчество,
Вернусь, когда захочется,
Чтоб под кроватью скорчиться
От каблуков родни,
Вот звук чугунной поступи,
Собрать потом хоть кости бы,
Ох, Господи, ох, Господи,
Спаси и сохрани!
1979
«Она держалась под руку…»
Она держалась под руку,
Девчоночка зелёная,
Она проснулась поутру,
В него вполне влюблённая,
Ненужная, случайная,
Шальная, злая, вздорная,
Очнулась и отчалила
На все четыре стороны,
Ушла, сорвалась запросто,
Как лист осенний по́ ветру,
К востоку, к югу, к западу,
А, может, даже к полюсу.
Она ему оставила
Красивое презрение,
Исчезла, как растаяла
По щучьему велению —
Ненужная, случайная,
Шальная, злая, вздорная,
Проснулась и отчалила
На все четыре стороны.
А он, дурак, своей судьбой
Средь бела дня ограбленный,
Дурной тоской, хмельной тоской
Отравленный, – оставленный,
Забыть не мог печальную
Девчоночку зелёную,
Залётную, случайную,
В него вполне влюблённую,
Ту, что сорвалась запросто,
Как лист осенний по́ ветру,
К востоку, к югу, к западу,
А, может, даже к полюсу, —
Ненужная, случайная,
Шальная, злая, вздорная, —
Отчаянно отчалила
На все четыре стороны…
1977
«У вас гулянка и народу полон дом…»
У вас гулянка и народу полон дом,
И чашки прыгают, и стены – ходуном!
Я Вас любил, и вот стою, не чую ног,
Меня приятель приволок на огонёк.
А Вы сидите на диванчике,
Сосёте леденцы,
А стаканы́вокруг стаканчики
Звенят, как бубенцы.
И кто-то рыжий из-под стула
Тянет голову к столу,
И я, печальный и сутулый,
Возле стенки жмусь, в углу.
Вы мне киваете: «Да-да, большой привет,
Ах, сколько зим ждала я, дура, сколько лет!
Ах, как бросалась к телефону, смех и грех,
Вон тот, под стулом, мне теперь милее всех!»
А я принёс Вам одуванчики,
Ромашки, васильки,
А Вы сидите на диванчике,
Зевая от тоски.
И Клавка, шустрая блондинка,
Руку жмёт мне под столом
И говорит: «Меняй пластинку!
Догулялся! Поделом!»
У ней, у Клавки, страсть, истома, жар в груди:
«А ну, давай, меня до дома проводи!
Тебя любили, чудака. Не твой тут бал.
Ты всё прощёлкал, проворонил, потерял…»
А Вы сидите на диванчике.
Гульба, бутылки в ряд.
А стаканы́ вокруг, стаканчики
Звенят, звенят, звенят.
И мне не с Вами – с дурой-Клавкою
Вдвоём куда-то вдаль
Шагать, и в сквере спать под лавкою,
С ноги ронять сандаль.
А Вы сидите на диванчике,
Жуёте шоколад,
А стаканы́ вокруг стаканчики
Звенят, звенят, звенят…
У Вас на шее шарф из шёлка,
И, с башкою набекрень,
Мне рыжий машет: «Что пришёл-то?»
И гитара – трень да брень.
А Вы сидите на диванчике,
Гульба, бутылки в ряд,
И стаканы́ вокруг стаканчики
Звенят, звенят, звенят…
Звенят, звенят, звенят…
1979
«Я пришёл к ней – галстук в клетку…»
Я пришёл к ней – галстук в клетку
И рубаха в канарейках,
Мы гуляли по проспекту,
Целовались на скамейках.
Задыхаясь и стесняясь
Непривычных слов,
Я базарил в лоб, в глаза ей
Про свою любовь!
На одних подарках спятил,
Воровал три дня сверх плана
И долдонил ей, как дятел:
«Я хочу Вас неустанно!
Вам всё можно, Вам не сложно
Сгинуть насовсем,
Только прежде перережьте
Мне штук двадцать вен!»
Спазмы в горле, дрожь по скулам —
Вот засёк я взглядом цепким,
Как она в метро махнула
Документом милицейским! —
А потом по-обезьяньи
Улыбалась мне:
«Познакомь меня с друзьями,
Я своя вполне!»
Мы на катере катались,
И в пылу осатанелом
Обнимались, целовались,
Как родня перед расстрелом.
И под скрип зубов и вёсел
Встал я в рост, во всю длину
И за борт её я бросил
В набежавшую волну!
Там она, в реке глубокой,
Спит, как спящая царевна,
Разглядеть её в бинокль
Я пытаюсь ежедневно.
Ведь теперь я в пух и перья
Весь разбит тоской.
Дорогая, навсегда я
До конца с тобой!
Злая прихоть – в воду прыгать
Съела мой покой!
Дорогая, до конца я
Навсегда с тобой!
1980
«У Женьки…»
У Женьки
С Преображенки
Такие в душе оттенки,
Что сам он
Готов хоть в саван,
Готов хоть под нож, хоть к стенке.
Вчера мы зверюгу-опера во мгле ночной отловили —
Он шьёт нам дела, как пуговицы. Но смотрим – не он, не тот!
Но, раз уж попался – вот тебе! Мы рыло ему набили,
Ведь мы же на зверя этого охотились целый год!
«Ребятки!
Включай обратку! —
Женёк призывал к порядку,
Не то ведь
Судьба отловит, —
Самих нас расплющит всмятку!»
Мы сделали то, что сделали, а нам бы его послушать,
Но ступор у нас, оскомина от всей его трескотни.
Пока мы до дома шлёпали, он нам проорал все уши:
«Конец нам, ребята, если мы такие же, как они!»
И через
Такую ересь
Ему кореша приелись,
И с нами,
С его братья́ ми
Все песни его отпелись.
Эх, видно не зря в лице его нам жизнь подавала знаки.
Он в штопор от нас, в запой ушёл, а нам-то и впрямь капут,
А мы через год угробились в аварии, в автозаке —
В троллейбус какой-то врезались, когда нас везли на суд…
1981
«По улице по Каланчёвской…»
По улице по Каланчёвской
Иду с растрепанной причёской,
Колючий дождь ко мне цепляется,
Шумит, бузит, как горький пьяница,
И по асфальтовым обочинам,
По тротуарам раскуроченным
Иду, пою, почти что трезвый я,
Мерцает месяц, словно лезвие,
Как будто дьявол взял под нож мою
Москву – старуху суматошную.
Эй, ты, кривая, злая, лютая,
Я молод, весел, я люблю тебя!
По улице по Каланчёвской
Иду походочкой нечёткой,
А в переулках с утра до ночи
Менты снуют – не все там сволочи,
Верчусь, как ключ в замочной скважине:
«Неужто, братцы, не уважите!
Светла печаль ночами летними,
Я вам налью, и вы налейте мне!»
Туман вдали, потёмки мутные,
Душа поёт! Девчата ждут меня!
По Каланчёвке, как под плёткою,
Бегу, скачу, стучу чечётку я!
Вверху блестит чего-то, светится —
Юпитер, Марс или Медведица,
Шарфом машу: «Эй, вы там, чудики,
Рули сюда на звуки музыки!
Я дам вам килек и горошечку
Под водку с пивом, под гармошечку!»
У трёх вокзалов, вон, веселие,
Я пью со всеми. В доле, в деле я!
Ура! Баланс держу упрямо я!
Бурлит красавица-Москва моя!
Поёт и пляшет, во хмелю хрипя.
Эй, ты, я вот он, я люблю тебя!
1979
«Дождь-доходяга отморосил, от мира сего отцепился…»
Дождь-доходяга отморосил, от мира сего отцепился,
Вдаль по-пластунски уполз во тьму поздний, пустой трамвай,
В чёрное небо светофор дёрганым глазом впился,
И во дворе на скамейке спит мирный алкаш Николай.
Звёзды ведут хоровод над ним, и вороньё хохочет,
И дядя Вася – дворник, друг рядом присел на край.
Рогом ворочает в небесах месяц, начальник ночи,
Тихо вздыхает – он видит всё – светит: «Держись, Николай!»
Вот милицейский мотор хрипит, как человек в удавке,
Люди из окон глазеют вниз, слушают свист и лай,
Люди горды: мы не пьяны, мы не лежим на лавке,
Нас никуда не увезут. В общем, прощай, Николай!
«Не отдавайте его, он свой!» – галки, грачи кричали,
Он пропадёт – грянет ваш черед сгинуть ко всем чертям!
Люди под лампами пили чай, со смеху подыхали,
Гладили кошек, несли, смеясь, ложки к раскрытым ртам.
Ветер деревья ломает-гнёт, гложет кору и корни.
Снова машина рулит во двор, льётся из кружек чай.
Всех увезли. Нет никого. Лишь дядя Вася, дворник,
Возле скамейки скулит, как пёс: «Эх, Николай, Николай!»
1980
«Снова кровь бурлит во мне, волнуется…»
Снова кровь бурлит во мне, волнуется,
Снова март звенит ручьями талыми,
Но в окне напротив – через улицу —
Ты платком печально помахала мне.
Дождик потихоньку капает,
По щекам меня царапает.
Холодно сегодня очень мне,
Пропадаю на обочине!
Тыщу раз родня твоя удавится,
Но со мной не пустит на свидание.
Ты – в очках учёная красавица,
На гитаре шпарю в ресторане я!
Дождик, злой, холодный, капает,
Горло мне впотьмах царапает.
Эх, за что такие ночи мне,
Пропадаю на обочине!
Мне б любви и счастья хоть немножечко,
Ты со мной своё откуролесила,
Наглухо захлопнула окошечко,
Насовсем закрыла, занавесила!
Дождик прямо в душу капает,
Сердце мне, подлец, царапает.
Холодно, тоскливо мочи нет!
Пропадаю на обочине…
1977
«Любовь у меня – хоть сейчас околеть…»
Любовь у меня – хоть сейчас околеть, —
Не праздник души, а сплошная комедь.
Она – музыкантша, а я – чёрт-те что,
Шопен мне в мозги – как вода в решето.
Я хитрых полонезов не подберу,
Мне уличная лирика по нутру, —
Куплетов и частушек живой огонь,
А в вальсах и фокстротах я – ни в зуб ногой.
У ней – ноль эмоций, хоть насмерть забей, —
Ко мне самому и к гитаре моей,
И некто во фраке, в часах золотых
К ней ходит со скрипкой, задумчив и тих.
Я весь погас на холоде, как свеча,
Они же там гоняют Шостаковича,
Они пьяны от счастья прикарманенного,
А вовсе не от классика Рахманинова.
Они, вон, умом и душой глубоки,
По клавишам долбят в четыре руки.
А я у соседа вчера, как дурак,
Губную гармошку купил за трояк.
Приплясывает дождик по мостовой,
А я под фонарём стою, как часовой.
Дежурю до утра под окнами,
Увидели б вы – со смеху подохли бы!
1978
«Путь-дорога далека…»
Путь-дорога далека.
Пропивай до пятака
Всё, что есть, и хоть слегка
Сердцем отогрейся!
В окна скалится беда,
По вагонам – чехарда,
И зарылись в никуда
Рельсы, рельсы, рельсы…
Пусть на самый страшный суд
На цепи приволокут,
Буду спать, пока дают,
Я на верхней полке.
Опостылело враньё
Про прекрасное житьё,
Нет людей, одно зверьё,
Волки, волки, волки…
Сотням душ прямой резон
Заглянуть за горизонт.
Лезем рогом на рожон,
В замогильный холод.
Частокол помятых морд,
Этот пьян, а этот мёртв,
И к губам кривым примёрз
Хохот, хохот, хохот…
Впереди тупик, завал.
Эх, гуляем, стар и мал!
Голос глотку разорвал,
Отсырела память.
Нам лететь сквозь шум и гром
Без оглядки, напролом,
И с откоса кувырком
Падать, падать, падать…
1977
«Он модель собирал, он приклеивал к планеру крылья…»
Он модель собирал, он приклеивал к планеру крылья,
И пришли два седых старичка, и сказали: «Привет!
Нам известно – ты староста класса, ты Саша Васильев,
Был великим героем Степаныч – наш друг и твой дед.
Ты сидишь и заветы отцов изучаешь за партой,
А вредитель опять приготовил подлянку, шакал!
Покажи нам тайник, где хранятся секретные карты,
Их Степаныч тебе (ты не помнишь) для нас завещал!
Мы с ним вместе в таёжных лесах пожирали поганки,
Убегая от царских ищеек, от пули лихой,
Мы глотали шрифты, чтоб они не достались охранке,
И рабочих в литейных цехах поднимали на бой!»
И, приклеенный ус теребя невпопад, между делом,
Старичок, что помладше, в сторонке скрипел костылём,
А другой, что постарше, достал пистолет «Парабеллум»
И вздохнул: «Говори, где тайник, а не скажешь – убьём!»
«SOS! Измена! Враги!» – Саша чиркнул тайком, втихомолку, —
Он бумажный клочок, ощущая спиной два ствола,
Уронил у дверей, и соседка, смотревшая в щёлку,
Куда надо, пришла и записку с собой принесла!
Он три дня их водил и сказал, наконец: «Мы у цели!»
А потом закричал: «Смерть шпионам! Стоять! Руки вверх!»
Сто служебных собак из засады на них налетели
И отборных бойцов двести семьдесят пять человек!
Их приёмами самбо сразили, их бросили наземь,
Все признали шпионы – как спутник хотели сбивать,
Связь морским патрулям перерезать, чтоб не было связи,
И кремлевские звёзды с Царь-пушкой к чертям подзорвать!
Саша планер доклеил, и вот он летит над землёю —
Голубь мира, точь-в-точь, птица белая, вестник весны,
И легки на подъём наши танки, готовые к бою,
И всегда начеку пионеры советской страны!
1980
«У неё беретик набекрень…»
У неё беретик набекрень,
У неё косыночка в горошек,
Вот умчался поезд, как олень,
Вот перрон листвою запорошен.
У неё ненастная пора,
Снова уезжают мама с папой,
Снова коротать ей вечера
С плюшевым медведем косолапым,
Бабушкины сказки наизусть
Бормотать в потёмках до рассвета,
В сказках и стихах – печаль и грусть,
Если мамы с папой дома нету.
Не берут её на край земли,
Ей всего три года с половиной,
Маму с папой ветры унесли
В гости к кашалотам и пингвинам.
Даже ёлка хочет ей помочь,
Гладит по плечу мохнатой лапой.
Снова скорый поезд мчится в ночь,
Снова уезжают мама с папой…
1981
«В ночь вцепилась лютой, мёртвой хваткой…»
В ночь вцепилась лютой, мёртвой хваткой
Лихорадка, лихорадка,
И деревьям на ветру несладко,
Их колотит и трясёт,
И дрожит под колесом трамвая
Мостовая, мостовая,
И иду я, в пол-лица зевая,
Бестолковый пешеход.
Я вчера сказал: «Послушай, Зинка,
Ты глаза свои разинь-ка, —
Приволок тебе опять корзинку
Незабудок, васильков!»
А она дала мне пару пива
Непонятного разлива
И сказала нараспев, лениво:
«Не припомню, кто таков!»
И, в закатное уставясь солнце,
Три копейки сдав с червонца,
Показала своего знакомца
Со звездою на груди;
Недожаренное чудо-юдо
Положила мне на блюдо:
«Ешь, – сказала, – и ступай отсюда,
И назад не приходи».
Мне сначала было просто дурно,
Но потом под звук ноктюрна
Я ответил ей вполне культурно:
«Исчезаю навсегда»,
И ничем уже себя не выдал,
Даже зуб ему не выбил,
А закрыл глаза и молча выпил
За героя соцтруда!
У него там коньяками пахнет
В чёрной «Волге» красный бархат,
Зинка плюхнется и в голос ахнет:
«Красотища! Красота!»,
А я отдел уже освоил винный,
Пью взахлёб с любой скотиной,
И, влюбившись в манекен витринный,
Ни жалею ни черта…
1979






