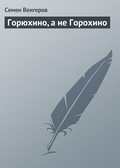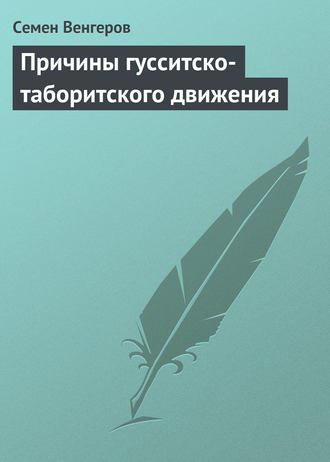
Семен Венгеров
Причины гусситско-таборитского движения
Но и озлобления городского населения, с течением времени все увеличивавшегося, было достаточно, чтобы задолго до Гусса заставить королей изменить антинациональную политику. Так, наприм., уже Карл IV «не поколебался дать постановление, чтоб язык чешский был в свободном употреблении в городских ратушах и чтобы поэтому ратманы в королевских городах не были только из немцев, а также чтобы немецкие мещане, как живущие между чехами, отдавали детей своих учиться чешскому языку. При огромной автономии, которою пользовались тогда городские общества, закон этот не удалось всюду провести легко, но он был большим подкреплением чешскому мещанству, усиливавшемуся все более и более»[62].
Карл IV был вообще чешский патриот и, будучи в одно и то же время чешским королем и германским императором, он отдавал предпочтение чешскому языку не только пред немецким, но даже пред латинским, игравшим в средние века такую же роль, как теперь французский. Любовь в родному наречию была так сильна в Карле, что особенною статьей так-называемой «Золотой Буллы» он постановил, чтобы сыновья курфирстов и других немецких князей учились чешскому языку, «как важному и необходимому в государстве»[63].
Такой же национальной политики держался и преемник Карла, Вячеслав IV. Особенно капитальных постановлений для уравнения прав чехов и немцев ему издавать не зачем было, так как самое существенное в этом направлении уже было сделано Карлом. Национализм Вячеслава выражался в его тесном сближении с народом и душевной симпатии ко всему чешскому. Двор его был вполне чешский, а не немецкий, как прежде. Одна только оставалась важная привилегия у немцев – главенство в Пражском университете. При Вячеславе и этот последний остаток прежних немецких льгот с большим эффектом уничтожается навсегда. При нем произошел знаменитый спор четырех «наций» в Пражском университете, послуживший прелюдией гусситского движения. Этот спор окончательно уравнял права чешской народности и даже доставил ей преобладание.
Подробностей его мы излагать не станем и только в общих чертах напомним о нем читателю.
Сущность спора заключалась в несправедливом устранении чехов от равномерного участия в управлении Пражского университета. При основании его подавляющее большинство студентов и профессоров были немцы и потому разделение на три иностранные корпорации или «нации», с тремя решающими голосами, и одну чешскую, с одним голосом, было вполне справедливо и не возбуждало неудовольствия в чешской среде. Но с течением времени количественное, и качественное отношение «нации» значительно видоизменяется. Студенты-иностранцы, стекавшиеся в Прагу со всех концов Европы, по-прежнему составляют большинство, но уже далеко не такое подавляющее, как вначале. Что же касается профессорского персонала, то славянский элемент составляет в нем половину; а если взять во внимание не только количество, но и качество, то гораздо более половины, так как лучшие профессора – те, которые придавали Пражскому университету блеск и значение – в начале XV века были все чехи. Прежде, когда туземных сил было мало, университет не щадил средств, чтобы привлечь наиболее знаменитых в Европе магистров и докторов. Но когда чехи, быстро усвоивши себе общеевропейскую науку, выставили целый ряд первоклассных ученых, университету уже не было надобности вызывать дорогостоящих крупных иностранных ученых.
Такое перемещение центра тяжести Пражского университета естественно должно было вызвать в чешской «нации» желание большего влияния на университетские дела. Чехи потребовали себе половины голосов, находя, что в чешском университете чехи должны, по крайней мере, пользоваться равными правами. Но немцы и слышать ничего не хотели, опираясь на данные им когда-то привилегии. И может-быть долго еще продержалось бы безусловно-несправедливое распределение голосов, если бы около 1409 года вопрос о том, можно ли с кафедры обсуждать «еретические» пункты Виклефа, не обострил положения. Немцы желали наложить решительный запрет на нечестивого англичанина, осмелившегося отрицать власть папы; чехи же и не думали им, возмущаться. Но так как юридическое большинство было на стороне немцев, то они и намерены были воспользоваться им, чтобы вполне пресечь распространение идей оксфордского богослова. Эта нетерпимость, шедшая совершенно в разрез с назревшим в Чехии стремлением к реформе, переполняла чашу долготерпения чешской «нации» и своею настойчивостью она добивается у патриотически-настроенного Вячеслава так называемого «кутногорского декрета», по которому чехам было предоставлено иметь три голоса, а всем иностранным «нациям», вместе взятым, один. Немцы не снесли обиды, и в 1409 году немецкие магистры и студенты, в количестве 5 000 человек, в торжественной процессии, оставили Прагу навсегда.
Демонстрация вышла крайне внушительная. Часть пражского населения была искренно огорчена. Это были те лавочники, портные, сапожники и т. д., которые кормились студенческими заказами. Нельзя, конечно, отрицать и того, что потеря такого огромного числа слушателей была чувствительна также и для университета. Но для национальной партии удаление немцев было одним из самых блестящих триумфов её. С уничтожением университетских привилегий пало последнее различие между чехами и пришлыми немцами, – они стали вполне равноправны. А это было все у к чему стремились чешские патриоты. Когда благороднейшего из них, Иоанна Гусса, упрекали в узком национализме, в желании стеснить права других национальностей, он с негодованием отвергал это. На Констанцском соборе его обвиняли в том, что он «изгнал» немцев из Праги только за то, что они – немцы. «Христос знает, – ответил на это обвинение Гусс, – что я больше люблю хорошего немца, чем дурного чеха»[64]. Правдивость Гусса стоит слишком высоко, чтоб усомниться в искренности его слов. И так как Гусс был представителем всей чешской национальной партии, то мы из этого видим, что на своем знамени она написала принцип равноправности, а ни в каком случае не поглощения.
Впрочем для нас в данном случае, то есть в вопросе о том, можно ли считать национальную вражду первостепенным фактором гусситского движения, совсем и неважно, на широких или узких принципах покоился чешский патриотизм. Для нас решающее значение имеет то обстоятельство, что пред самым началом движения национальные стремления чехов получили окончательное удовлетворение. Конечно, враждебное отношение обеих народностей не прекратилось с юридическим уравнением их прав. Немцы ненавидели чешских «варваров», отрицавших их превосходство, а чехи еще живо помнили прежнее неравенство. Между чешскими вожаками были такие, как Мишка, которые смертельно ненавидели немцев.
Было бы крайне ненаучно с нашей стороны отвергать, что на одушевление гусситского войска известную долю влияния имело желание отомстить тому народу, при посредстве которого мутная волна средневековой распущенности нашла себе доступ в патриархальную Чехию, – тому народу, который внес в вольную чешскую жизнь разлагающие начала феодального гнета и неравенства. Но все-таки мы не можем тут усмотреть первостепенного фактора, потому что первостепенною причиной можно назвать только такую, которая сама по себе была бы в состоянии произвести то или другое явление. А вот этого-то в данном случае никак вообразить себе нельзя. Чтобы в самом деле написало на своем знамени гусситско-таборитское движение, если бы оно проистекало из национальных чувств?… Изгнание немцев из Чехии? – Но мы уже знаем из ответа Гусса, что ничего подобного не было в намерениях чешских патриотов и дальнейший ход событий нам покажет, что в минуты самого блестящего торжества своего чехи не трогали немцев, если только те не трогали их. Во имя каких же других национальных побуждений вожаки могли убедить народ поднять кровавое знамя восстания?… Во имя уравнения прав? – Но оно было уже осуществлено. Значит во имя преобладания чешской национальности? – Но мы уже знаем, что к юридическому преобладанию чешские патриоты не стремились, а что касается нравственного, то оно имело место. Двор был вполне чешский, высшее сословие, уже с половины XIV столетия, под влиянием соперничества с немецкими горожанами, было настроено патриотически, а в литературе идет такое сильное национальное течение, такая страстная приверженность во всему родному, которая послужила источником в неслыханному в средневековой жизни явлению, а именно – к замене латинского языка чешским не только в произведениях изящной словесности, но даже в специальных, богословских исследованиях. Если к этому присоединить преобладание в университете, то мы должны будем признать, что интеллектуально-нравственный мир Чехии в началу гусситско-таборитского движения был вполне свободен от иноплеменного стеснения.