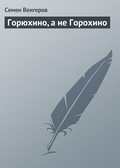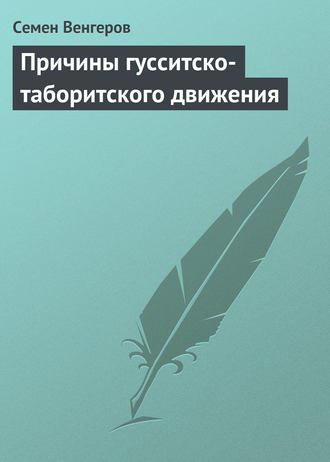
Семен Венгеров
Причины гусситско-таборитского движения
Все эти соображения отнимают у нас всякое право считать гусситство национальным протестом, что, конечно, не мешает ему быть глубоко-национальным движением.
V
Перейдем теперь к тому факту, который действительно имел большое влияние на возникновение гусситско-таборитского движения – в развращенности римско-католического духовенства, к распущенности городского населения и высшего общества и, вообще, к той великой порче европейских нравов, против которой в Чехии раньше, чем во всех других странах Европы, раздались громовые слова целого ряда нравственных проповедников, подготовивших почву для евангельских принципов Таборской горы.
Соседство «цивилизованной» Германии обошлось Чехии не даром. Около половины XIII столетия мы уже наталкиваемся на грустные подробности растлевающего влияния средневековой погони за мишурным блеском. Высшее сословие, не имея правовых отличий от большинства народонаселения, обособляется роскошью и этим мало-помалу воздвигается стена между ним и народом, державшимся старославянской простоты.
«Многообразное столкновение с немцами, как дома, так и за границею, быстро ознакомляло чехов того времени с успехами просвещения, выходившими из западной Европы, а вместе с тем и с неизбежными (?) спутниками их – всякого рода тщеславием и роскошью. Ознакомившись с произведениями культуры соседних стран, которые вносились в страну благодаря более живым торговым оборотам, чешские дворяне и рыцари привыкли к блестящему и расточительному образу жизни. Вошло в обычай великолепное рыцарское одеяние, блестящие шлемы с пестрыми султанами, красивые панцири и щиты, отмеченные отличительными цветами родов, аксамитовые сукна, блещущие золотом, и вони, украшенные шелковыми попонами с драгоценными камнями и перлами. Рядом шли – шумный образ жизни в замках, пиры, игра в кости и другие пустые удовольствия, страсть к охотничьим забавам, большая пышность и мотовство. Во главе всего этого стоял двор короля Вячеслава (И-го), дававший всему тон. Здесь было великолепие, дотоле в государстве невиданное. Король, с ранних лет наклонный к роскоши, не щадил коронных доходов для того только, чтобы собрать около себя все, что могло способствовать роскошному образу жизни, по требованиям того времени. Его щедрость привлекала к пражскому двору иностранцев всякого рода: странствующих рыцарей, ознакомившихся с наилучшими способами придворных развлечений в чужих землях, фигляров, совершавших различные фокусы; любимых немецких певцов, забавлявших дворянское общество стихотворными песнями о любви и приключениях. Король Вячеслав и сам пробовал свои силы в сочинении немецких любовных песен по их примеру. Все роды празднеств, вся пышность мужских и женских одежд и всякое великолепие сосредоточивались на больших состязательных играх или турнирах, происходивших при дворе. Блюстителем в них всех тех правил, которые соблюдались и в иных землях, был немецкий рыцарь Ойирж из Фридберга, пришлец исчужа, особенный любимец короля Вячеслава. Для охотничьих забав король построил себе увеселительные охотничьи замки в королевских лесах, как, напр., небольшой замок Тыржов или Анорбах у Крживоклата»[65].
Центром развращенности становится Прага, которую нравственные проповедники того времени называют не иначе, как Вавилоном, великою блудницей, матерью разврата[66]. Народная нравственность возмущалась, тем более, что в распущенности этой народ был только негодующим зрителем. Прага была скорее немецким городом, чем чешским, что видно из того, что первый проповедник, поднявший голос против развращенности, был немец (Конрад Вальдгаузер), говоривший свои проповеди на немецком языке. Чешские же элементы Праги – высшее общество и духовенство – мало имели общего с большинством населения страны, которое отличалось в то время замечательною чистотой нравов. Как доказательство этой нравственной чистоты, могут служить сочинения Фомы Штатного, писателя очень резкого в порицании, который с величайшим уважением говорит о целомудренности чешского народа. Одно современное стихотворение, комментирующее десять заповедей, дойдя до седьмой, описывает ухищрения, какие должен был употребить дьявол, чтобы заставить молодую, прекрасную вдову… второй раз выйти замуж[67]. И рядом с этой простою жизнью в среде народной с каждым годом развивалась в городах, при дворе и в замках знатных господ «немецкая цивилизация», многие черты которой скорее, однако же, напоминали римский лупанарий. Кто вспомнит, что в средневековой Германии императоры торжественно, на пергаментных хартиях, благодарили магистраты некоторых городов за предоставление императорской свите дарового пользования публичными домами, тот поймет глубокое возмущение чешского народа, когда чешские короли стали населять свои земли немцами такого же миросозерцания, когда немецкие нравы широкой, растлевающею волной хлынули в Чехию и загрязнили её менее нравственно-чуткие элементы. И в довершение развернулась в бесстыдной наготе своей оргия монашествующего фарисейства, наглый разврат мнимых служителей Бога правды и справедливости.
Первое, что бросается в глаза, когда ближе присматриваешься к духовному элементу Чехии XIV и XV века, это – чрезвычайная многочисленность его. В то время, как даже теперь, после целых веков необузданного католического торжества, на 5 миллионов населения приходится 1 900 приходских костелов, – на гораздо меньшее число чехов при Карле IV приходилось 2 100[68], так что не даром этот главный виновник такого обилия костелов получил название «поповского короля». Сверх того, по всей стране было разбросано множество монастырей. В одной только Праге их было 18 мужск. и 7 женских. Персонал был чрезвычайно роскошный, о чем можно судить по тому, что при иных церквах состояло до 300 клириков[69].
И не одною только многочисленностью выделялось чешское духовенство. Имения духовенства, состоявшие как из земель, так низ ежегодной подати, наложенной на земли или на дома, были громадны. к одному архиепископству (Пражскому) принадлежало почти 900 сел и города: Рудница, Рошканы, Прибраш, Рожемиталь, Гершов, Тин, Тин-Бехинский, Мольдауский, Червонная-Речица, Степанов, Вискитна, Пельграмов, Брод-Чешский или Епископский, из которых некоторые равнялись величиной и благосостоянием королевским городам, а также замки: Хинов, Гералец, Кривсудов, Герштейн, Супигора. Кроме старинного дома в Пражском замке, епископы имели, еще со времени короля Вячеслава I, огромный двор епископский недалеко от моста, на Малой Пражской стороне; самым обыкновенным летним местопребыванием их была Рудница, крепость и город, который последний епископ, Ян II Дрожицкий, украсил роскошными зданиями и особенно крепким каменным мостом через быстро текущую Лабу (Эльбу). Архиепископ был окружен, кроме духовных сановников, блестящим двором чиновников, слуг и других мужей[70].
Богатства духовенства увеличивались с каждым годом, благодаря «набожности» чешских королей и в особенности Карла IV. Короли раздавали свои земли духовенству, которое в свою очередь раздавало их в аренду крестьянам. Таких крестьян в распоряжении духовенства было огромнейшее количество. Не только епископы, но даже приоры имели по 50 деревень. Бенедиктинский монастырь в Бревнове имел 1 000 марок (25 000 гульденов) ежегодного дохода с принадлежащих ему угодий.