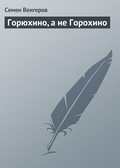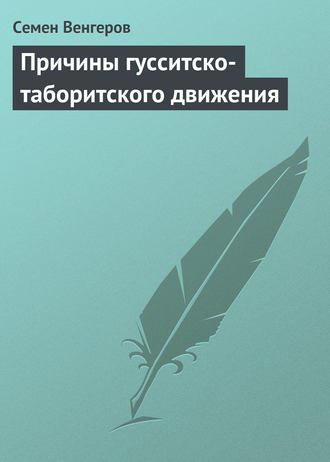
Семен Венгеров
Причины гусситско-таборитского движения
Было бы утомительно перечислять все отдельные случаи богатства чешского духовенства. Достаточно припомнить слова Гусса, что больше четверти доходов всего королевства[71] попадало в руки патеров, – и всякие дальнейшие подробности становятся излишними.
Благочестивые католики, конечно, радовались такому благоденствию «жены Христовой». Эней Сильвий Пикколомиии, в своей знаменитой «Истории Богемии», захлебываясь от восторга, рассказывает о богатствах чешского духовенства, о великолепии и пышности чешских церквей, о довольстве и изобилии, господствовавшем в чешских монастырях[72]. Непосредственно от этих восторгов Эней Сильвий переходит к негодованию на безбожных таборитов, которые патеров раскассировали, церкви сожгли, монастыри обезлюдили. И ни на одну минуту суетному итальянцу не приходит на ум, что именно это-то великолепие, именно этот-то блеск сословия, которое должно бы быть представителем простоты и смирения, и вызвал описываемое им ожесточение таборитов.
Власть, сила, даваемые богатством, ведут в злоупотреблениям даже и тогда, когда они находятся у людей с нравственными задатками. Следует ли поэтому удивляться тому, что закружилась голова у католических патеров, лишенных каких бы то ни было нравственных стимулов, и тем более, что апогея всяких злоупотреблений достигали те, которые выдавали себя за наместников Христа на земле? Яд нравственного растления разливается из римской курии на все католические страны и всюду приводит к более или менее одинаковым результатам. Чехия не составила исключения.
«Усердие нравственных проповедников с большим жаром вооружалось против беззакония, господствовавшего в духовенстве. Они открывали и изобличали его перед лицом всего народа, когда испорченность все больше и больше расширяла свои пределы. Папы еще во время пребывания своего в Авиньоне, когда доходы их уменьшились, по причине смут в Римских владениях, а еще более во время раздвоения церкви, когда римский и авиньонский папы, каждый отдельно, имели такие же потребности, какие были у их предшественников, управлявших всею церковью, – папы, повторяю, выдумывали целый ряд способов к тому, чтоб умножить денежные свои доходы с различных христианских стран. Они налагали большую плату за назначение церковных бенефиций епископам и архиепископам и неслыханным образом нарушали права собственности церковных патронов, предоставляя себе право отдавать какую бы то ни было бенефицию непосредственно в силу апостольской власти; это происходило обыкновенно так, что бенефиция переходила к кому-либо или за уплату долга, или за услугу, оказанную папе. Папа Бонифаций IX ввел в обычай, чтобы бенефиции, находившиеся при его дворе, продавались тем, кто давал за них большую цену. Не удивительно, что пример самого главы церкви был принят также многими патронами, так что продажность, или симония, распространялась повсюду. Это же было причиною того, что к духовным должностям определяли людей неспособных и пустых, которые заботились только о том, чтобы больше брать барышей с своей церкви. Каноникаты и фары подобными владетелями отдавались на откуп, и не только тайно, но даже с разрешения и утверждения самого архиепископа. Бенефициат жил, где ему было угодно, а церковью управлял за него наемный священник. Было время, когда большая часть фар в чешских городах управляема была подобными наемниками, которые нисколько не заботились об уничтожении беспорядков»[73].
В Риме открылся торг духовными званиями в полном смысле этого слова. Каждое из них оценивалось по тому доходу, который оно в состоянии было приносить. За бенефицию, приносившую 200 флоринов, папа получал 40–60 и до 80 флоринов. О самой личности претендента никто не справлялся. Должность вивариев получают не раз слуги, повара и даже семи и пяти лет[74].
Не нужно обладать слишком пылкою фантазией, чтоб ясно представить себе то духовно-нравственное «руководительство», на какое были способны люди, подобным путем достигшие священничества. Главною их заботой, конечно, становится наверстать деньги, затраченные на приобретение бенефиций. «Верные сыны церкви», какими издавна считались чехи, не получают безвозмездно ни одного из духовных благ. Сами же епископы жалуются на пражском синоде, что патеры не хоронят! без денег даже нищих, пока не найдется набожный богач, который заплатит за это, и что они не крестят детей, если нет много кумовей, которые все обязаны сделать патеру подарок[75]. Церковное покаяние исчезает: вместо него установляется регулярная такса за отмаливание грехов по степени их важности. И нет греха, от которого нельзя было бы очиститься деньгами; даже убийство не исключено из этого тарифа.
Устроивши все на коммерческую ногу, католики не заботятся даже о том, чтобы сохранить внешнюю благопристойность, и синоды должны неоднократно издавать постановления, чтобы месса не бросалась на половине, чтоб она читалась в требуемое церковными правилами время и чтоб она вообще читалась, так как были священники, которые в продолжение семи лет не читали ни одной мессы. Такие постановления дальше постановления не пошли, потому что виновных оказывалось столько, что многочисленность их устраняла всякую возможность что-нибудь сделать[76]. Да и можно ли было обязать каноников отправлять богослужение, когда сплошь да рядом случалось, что один и тот же викарий имел несколько приходов, разбросанных по всему государству. В Праге было много таких каноников, которые вместе с тем имели приходы в Брюне, Ольмюце и Бреславле. Николай Пухник из Черница, уже имеющий два прихода в Праге и Ольмюце, получает богатый приход Св. Николая, который меняет на две «пребенды». Но этого ему мало и он выканючивает себе еще приход Иеленице в Моравии. Сверх всего этого он состоял оффициалом при архиепископе и занимал должность генерального викария[77].
Глубокий упадок чешского духовенства бил настолько в глаза, что самые усердные католики не могли отрицать его. В числе историков гусситской эпохи есть магистр Андрей из Брода. Это один из тех благочестивых сыновей католической церкви, которые, ad majorem gloriam святой курии, всегда кладут самые черные краски на действия противников католицизма и самые розовые на подвиги патеров. Так вот даже этот благочестивый магистр, описывая эпоху, непосредственно предшествовавшую гусситскому взрыву, говорит: «Non erat vitium in laycis, quod non prius et heu notabilius clerici practicassent»[78], т. e. не было у мирян того порока, который еще раньше и еще в большей степени не проявлялся бы в духовном сословии.
Сама духовная власть не может уже больше закрывать глаза и не отметить зла. Архиепископ Эрнест из Пардубица торжественно говорит, что каноники больше развращают своих прихожан, нежели наставляют их на путь истины. В 1379 году производится «большая инспекция» и слова архиепископа получают блестящее подтверждение. Инспекция начинается с пражского духовенства. Не трудно понять, что там, где была хотя малейшая возможность скрыть неприглядную истину, ею пользовались более чем охотно. И все-таки из 39 инспектированных приходских священников Праги за 16-ю открывается целый ряд безнравственных поступков. Патер Тынского прихода, Варфоломей, имеет любовницей замужнюю женщину; кроме того его неоднократно видели посещающим дома терпимости. Каноник церкви Св. Лингарта, Прокоп, обвинен в том, что у него настоящий сераль; он устраивает веселые пирушки, на которых, кроме его многочисленных любовниц, участвуют монахини и другие священники. Уличенный в таких поступках, Прокоп старается оправдаться: он признает, что ему действительно приходилось принимать у себя публичных женщин, но редко. Во всяком случае он менее виновен, чем, например, его сосед, патер Матвей, у которого дом всегда полон женщин и разгульных священников. Другого пражского приходского священника подозревают в том, что он растлил свою собственную дочь. Каноник церкви Св. Петра постоянно шляется по кабакам, напивается в них со своею любовницей и всегда пристает к другим публичным женщинам. Но он далеко не из худших в своем сословии: булочник, вызванный в качестве свидетеля, говорит, что он видел уже трех священников в этом приходе и все они вели себя несравненно хуже. Патер церкви Св. Иоанна отправляется играть в кости в Старый-Город, проигрывает там все, даже платье, и голый отправляется к своей любовнице[79].