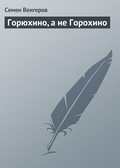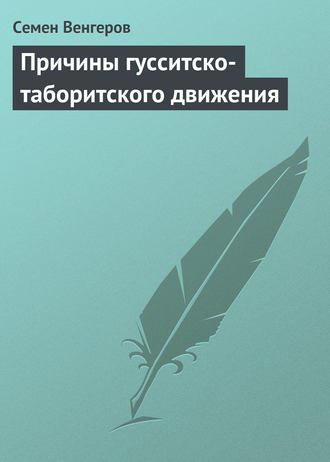
Семен Венгеров
Причины гусситско-таборитского движения
Наконец сохранилось еще одно в высшей степени важное свидетельство о положении чешских „крепостных“, которое, пожалуй, делает излишним весь ряд приведенных выше фактов.
В 1383 году некий заграничный схоластик Ранконис де-Ерицино, получивший свое юридическое образование вне Чехии, выступил в Праге с трактатом, в котором, в целях увеличения церковных богатств, доказывал, что чешские крестьяне – крепостные и имеют только пользование землею (rustici sunt riboldi et servi, solum midum usum habentes). Но он был блистательно побит пражским генеральным викарием Вунешом, отличным знатоком канонического и туземного права, который на строгой почве фактов доказал всю несостоятельность утверждения иностранного юриста, воспитанного на общеевропейских понятиях и потому смотревшего на чешских крестьян тоже с общеевропейской точки зрения. В начале ответа Вунеш (или Кунзо, как он зовет себя по-латыни) старается убедить Ранкониса общенравственными соображениями. Он доказывает схоластику, что его утверждение „жестоко и дико“, что оно противоречит естественному» и что, наконец, оно идет «наперекор евангельскому благочестию». Затем Кунеш переходит на практическую почву туземного права и между прочим ссылается на «общественное сознание» (experientia publica) в доказательство того, что «в Богемском королевстве крестьяне свободны, а не рабы». Много еще раз подчеркивает виварий, что «крестьяне нашей» свободны, и наконец в заключение энергически говорит: «Итак, крестьяне платят только оброк, но они не крепостные и не временно только имеют пользование землею: они полные обладатели своего имущества и своих» («Sunt ergo incolae rustici emphyteutici et censitae – et non sunt servi vel usuarii, sed rerum suarum et jurium veri domini»[34].
Нас в данном случае не столько интересует самая победа Бунеша, сколько одна возможность спора. Во Франции мы Германии на Ранкониса посмотрели бы как на человека, доказывающего, что дважды два четыре, а на Кунеша – как на сумасшедшего. Хорош бы он, в самом деле, был, если бы с людьми общественного строя, основанного на крайнем неравенстве, вдруг заговорил о каком-то равенстве.
Чтобы дорисовать условия народного быта в эпоху непосредственного возникновения гусситсво-таборитского движения, прибавим, что известная хроника Далимила указывает нам на то, что еще в XIV столетии население каждой деревни состояло только из людей связанных кровным родством[35].
В XVII столетии, после 30-ти летней войны, в Чехии действительно установилось немецкое крепостное право[36] со всеми своими тягостями. Но народ не протестовал и безропотно сносил дотоле неизвестное угнетение. А сносил он его потому, что был сломлен дух его, – тот самый дух, который некогда затопил кровью поля Чехии за несравненно менее значительные уклонения от народных идеалов добра и справедливости.
Приведем в заключение цитаты из Шерра и Маурера, которые покажут нам, что мнение об отсутствии в Чехии крепостного права, в европейском смысле, основано на добросовестном сравнении, что даже недоумение профес. Гёфлера, меряющего немецкою меркой и потому считающего гусситско-таборитское движение беспричинным, вполне понятно.
Сравнение это важно не только в виду только-что указанной цели, но и для того, чтобы показать стойкость нравственных идеалов чешского народа, его способность отличать золото от мишуры, его уменье пользоваться хорошими сторонами цивилизации, отбрасывая при этом те, которые противоречат народным понятиям о правде и справедливости.
Дело в том, что Чехия до Карла IV, то есть до половины XIV столетия, была в известной вассальной зависимости от Германии. Как по этой причине, так еще и по многим другим, она находилась с нею в самых оживленных сношениях государственных, умственных, торговых. Такое близкое соприкосновение двух народностей не могло не повести к сближению чешских и немецких нравов. И действительно, во многих отношениях Чехия и Германия представляли как бы одну страну. Двор, духовенство, высшее городское сословие – все это в обеих странах имеет одну и ту же нравственную или, вернее, безнравственную физиономию. Но народной жизни это растление не коснулось: охотно заимствуя от немцев просвещение, выдвигая из своей среды множество умственных работников, народная жизнь совершенно не желает подчиниться другим сторонам немецкой «культуры». К развращенному двору и к забывшему свое назначение духовенству чешский народ относится с отвращением, а в своей среде продолжает соблюдать старую чистоту нравов. Еще стойче он стоит за свои общественные идеалы, и нужно было очень крепко за них держаться, чтобы так удачно в продолжение стольких столетий сопротивляться ослепляющему блеску «цивилизации», обыкновенно так победоносно подчиняющей себе цивилизуемые народы. И только благодаря такой замечательной стойкости, цивилизации гнета и неравенства не удается развернуть в Чехии этих своих качеств.
За то они развертываются пышным цветом в Германии.
Начнем сравнение с древних времен.
В Чехию рабство переходит из Германии в IX столетии. В Германии же оно известно уже в первых веках христианской эры[37].
«Были в Германии свободные люди, но рабов было еще гораздо больше. Весь народ распадался прежде всего на два большие сословия: на свободных или привилегированных – и на несвободных или бесправных. Последние были значительно многочисленнее первых. Сословие свободных и сословие рабов подразделились впоследствии каждое на два разряда, именно: первое – на благородных свободных (Adalinge, Edelinge, в старых законах nobiles) и простых свободных (Gemeinfreie, ingenui или liberi), а второе – на крепостных, обязанных служить или платить оброк (Liten, liti) и на собственных рабов (Schalke, servi). Рабы положительно становятся древними законами на одну доску с животными. Немецкий раб был вещью, товаром, орудием мены: господин мог бить его, увечить, убивать, потому что по древне-германским судебным уставам только свободные люди находились под покровительством законов. Крепостные, или литы, отличались от шальков тем, что им были предоставлены от господ участки земли для обработки и для пользования за известные услуги и уплату оброка и что они могли продаваться только вместе с той землей, на которой они были поселены. Крепостному, конечно, было лучше, чем настоящему рабу, собственно в том отношении, что ему представлялась возможность зарабатывать, наживаться и таким образом выкупаться впоследствии из рабства, причем, однако надо заметить, что потомки вольноотпущенного лита только в третьем поколении начинали пользоваться всеми правами свободных людей. Пока он был крепостным, он, подобно рабу, не имел права жаловаться и появляться лично в суде, а должен был выбирать себе представителя из свободных людей. Как жестоко поступали с рабами, видно уже из той статьи закона, что рабу, уличающему господина в преступлении, не следует давать веры. Чем больше бесправность несвободных, тем больше привилегии свободных: одни свободные имели право носить оружие; они одни имели место и голос в народном собрании (в Чехии судебные порядки были одни и те же для всего населения); они одни могли быть обвинителями, свидетелями и судьями; они одни могли исполнять обязанности жрецов. Таним образом богослужение, законодательство, администрация и судебная власть находились исключительно в их руках. О демократической струе, проходящей через древнегерманскую жизнь, можно поэтому говорить только в том случае, если ограничивать понятия народ меньшинством привилегированных, господ, свободных. Собственно же для народа древне-немецкая свобода состояла в тяжелых работах и лишениях, в больших оброках, в барщине и в палочных ударах. Его участь – участь крепостных и рабов – была очень печальна. Он должен был работать для праздных господ и за каждый проступок подвергаться жестоким наказаниям. бесправный в этой жизни, народ не имел также надежды и на загробное блаженство: только свободным людям был открыт доступ в Валгаллу Одина»[38].