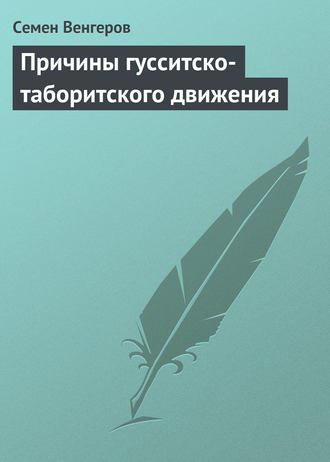
Семен Венгеров
Причины гусситско-таборитского движения
Во всех народных протестах последний король-тиран или последние стеснительные тягости играют значительную роль. Своими недостатками Карл I ускорил революцию 1649 года, своею жестокостью вызвал Яков II революцию 1688 года, своею нероновскою кровожадностью Христиан II заставил шведов взяться за оружие. Людовик XII сам по себе не возбудил бы, конечно, народного протеста, но система его предшественников продолжала держаться. Рана, следовательно, продолжала зиять, продолжала гноиться, причинять смертельные муки и ответственным за них, по всей справедливости, являлся лично благонамеренный Людовик XVI. Карл X, Фердинанд Бомба и т. д., и т. д…. Было бы слишком утомительно перечислять всех сверженных, изгнанных королей, королев, герцогов, – все они своею личностью служили окончательным толчком назревавшей революции, все они какими-нибудь своими распоряжениями вызывали финальный взрыв. В чешском же движении, которое и без того не имело причин жаловаться на политический или экономический гнет, не было даже этой последней капли, переполняющей чашу народного долготерпения.
IV
Но может-быть гусситско-таборитское движение было протестом национальным? Может-быть дело просто сводится к борьбе двух рас?
В ответ на это прежде всего следует сказать, что национальную вражду уже по тому одному нельзя причислить к степенным факторам этого движения, что к началу его были устранены все причины, которые могли бы питать национальное озлобление. Национальная вражда зачинается в Чехии лет за двести, до проповеди Гусса, вызывает в течение этих двух столетий ряд протестов, более или менее сильных, и дело кончается тем, что чехи становятся полными господами своей страны, отодвигая прежде торжествовавших немцев на второй план. Эта окончательная победа относится как раз в началу XV века, то есть к началу рассматриваемого нами теперь движения. Но, конечно, воспоминания о только-что окончившейся борьбе были еще свежи и не один кровавый эпизод гусситских войн произошел под их впечатлением.
«В эпоху от Премысла-Оттокара первого (ум. 1230) до короля Яна (ум. 1346) некоторое время дело шло о том, быть или не быть чешскому народу и его языку. Когда прекратился старинный княжеский род; когда, по его примеру, шляхта начала жить по-немецки; когда немецким пришельцам отданы были лучшие города для производства городских ремесл и на всей границе протянулась полоса немецких земледельческих колоний, проникших местами и в глубь Чешской земли, – тогда могло показаться, что для славянского племени в Чехии настала такая же тяжелая участь, какою оно было уничтожено в Мейссене, в Бранденбурге, в Силезии, в Поморий и в других местах»[58].
Последнее, однако, не произошло потому, что в Бранденбурге и Помории немцы натолкнулись на первобытный народ, а в Чехии общеевропейская образованность еще в XII веке стояла на довольно высокой ступени развития. Но все-таки немцы были культурнее и потому на первых порах Чехия не могла им оказать равносильного культурного противодействия. Такая слабость длилась однако же не долго. Способные ученики, чехи, в течение XIII столетия во всех отношениях догоняют своих учителей и уже в самом начале XIV столетия начинается очень сильное национальное движение. К этому времени относится знаменитая хроника Далимила, которая приобрела самую широкую популярность. Она дышит ненавистью к немцам и полна самой возвышенной любви к родной земле, родному народу, родному языку. Чехи желают быть господами своей земли, тем более, что они начинают совершенно расходиться в нравственных понятиях с пришлыми немцами.
Вражда чехов и немцев ни в каком случае не была враждой двух рас. Это была вражда двух различных душевных строев, двух миросозерцаний, друг другу почти диаметрально противоположных. Если сопоставить вольную славянскую общину и немецкий феодализм, немецкую средневековую распущенность и чистоту чешских народных нравов, немецкую схоластику с её мертвящим буквализмом и дух критики, так рано пробудившийся в Чехии, – если все это добросовестно сравнить, то мы должны будем вполне оправдать чехов, которые возненавидели немецких пришельцев, внесших дух разложения в старую чешскую простоту.
И чехи были еще вдвойне правы в своих национальных чувствах, так как они вовсе не требовали изгнания немцев или уменьшения их прав, а желали лишь отмены, данных пришельцам в ущерб правам коренного населения.
«Король бегемский должен поставить свой народ во главе, а не в хвосте, – пишет один из чешских патриотов, Ян Иесеница. – Ему должно быть уделено первой место, а не последнее. Как канонический закон, так и гражданский согласны между собою в том, что управление должно быть в руках туземцев»[59].
Таким образом мы видим, что чешский патриотизм не предъявлял никаких исключительных требований. В сущности эти требования не были даже вполне национального характера, а носили на себе довольно сильный политический оттенок. Дело в том, что, раздавая свои земли немецким эмигрантам, чешские короли создавали себе опорный пункт помимо большинства населения и этим, конечно, усиливали свою власть в ущерб народной.
Не следует, однако, преувеличивать значение данных немцам привилегий и степень вызванного ими озлобления. Давать привилегии короли могли только в городах, и то не во всех, а лишь в так-называемых «королевских». Сельское же население, то есть тот элемент, который придал гусситству его устойчивость, эти привилегии мало затрогивали. Так, наприм., в «королевских» городах действительно «немецкие колонисты были главными панами; язык их введен был в судах и городских учреждениях; его употребляли устно, а впоследствии также частью в грамотах, наравне с самым употребительным до тех пор латинским; источники (кодексы) немецкого нрава, по которому судили в городах, были большею частью также писаны по-немецки. Чешские жители городов, пока они находились там вместе с немцами, должны были учиться по-немецки, если хотели иметь хотя малейшее участие в ратманстве и городских должностях, или обойтись в служебных занятиях без юридических представителей или ораторов. По примеру городов поступали городские училища и духовенство в костелах»[60].
Так дела обстояли в городах, где вначале большинством населения были немцы. Но только в городах.
«Напротив того, язык чешский не потерял нигде привилегированного права своего в земском судопроизводстве, как в округах, так и в высшем суде в Праге. Юридический язык сохранился там во всей своей стародавней свежести при устном и открытом производстве, также как и самое право нигде не отступало от первоначального своего славянского происхождения»[61].
Следовательно сильное озлобление против немцев могло иметь место только в городах. Так оно действительно и было. Сельское же население, которое, как мы уже выше заметили, дало гусситству его главную силу, за исключением тех сравнительно немногочисленных местностей, где селились немецкие колонисты, не имело специальных причин озлобляться. Если же мы во время гусситских войн замечаем сильную ненависть к немцам именно среди простого люда, т. е. главным образом среди крестьянства, то это потому, что слова «немец» и «католик» были тогда синонимами. Немцы составляли ядро крестоносного ополчения, пришедшего вернуть чехов в лоно римской церкви, немцы беспощадно разоряли страну, немцы являлись главным препятствием к насаждению «царства Божьего». Оттого-то их так и возненавидели чешские сельчане. Но эта ненависть, повторяем, была самого недавнего происхождения и до гусситско-таборитского движения была сильна только у чешских горожан.







