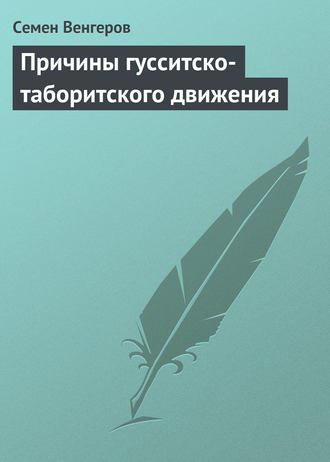
Семен Венгеров
Причины гусситско-таборитского движения
Если сравнить эту характеристику с картиной древне-славянской или, в частности, древне-чешской жизни, не знавшей ни рабов, ни крепостных, ни жрецов, и если сопоставить ее с словами Козьмы: «все люди равны от природы», – словами, сказанными шесть веков позже охарактеризованного Шерром времени, т. е. тогда, когда краски этой характеристики стали еще несравненно гуще, – то едва ли нужно быть «славянофилом», чтобы видеть в демократичности черту специально-славянскую, которая, конечно, не могла не отразиться самым коренным образом на дальнейшем развитии социально-политического строя Чехии.
Перейдем к более поздним временам.
Положение несвободных людей всего менее улучшалось. Несвободные люди по-прежнему составляют цельную хозяйственную статью с «любезным скотом» (mit dem lieben vieh), как выражается Маурер[39]. Средне-вековые документы всегда выражаются так: «когда чьи-нибудь вещи (res), будь то крепостные, или скот, или золото, или серебро» и т. д.[40]. Если, по мере приближения к новейшей истории, отдельные личности начинают вдумываться в исповедываемое ими учение Того, кто населял свое царство неимущими, если появляется Маргарита Фландрская, освобождающая всех крепостных своего графства[41], то в общем положение серого деревенского люда все-таки остается ужасающим.
«Имущество, честь и жизнь крепостного крестьянина находились в руках господина и зависели от его произвола. Крестьянин не только подвергался всяким истязаниям, с ним просто обращались как с вещью, его продавали как скотину. Привычка смотреть на крепостных как на движимую собственность господина породила и другую привычку – тешить, во время распрей, страсть к разрушению над личностями, хижинами и полями крепостных»[42].
«Кроме физических мучений феодальное высокомерие изобретало еще и нравственные, с целью задушить в крестьянине последнюю искру чувства собственного достоинства. Брак крепостных обоих полов зависел от разрешения владельца имения или же его управляющего»[43].
Рядом с этим господин имел право заставить крепостного жениться на указанной ему невесте[44]. В некоторых частях Германии господин также имел право провести с новобрачной крепостной первую ночь.
Как индийский пария, немецкий крепостной осквернял того, кто с ним вступал в близкие сношения. Если свободный человек женился на крепостной, он сам становился крепостным в силу поговорки: «если ты садишься на мою курицу, то ты становишься моим петухом»[45].
«Надо только удивляться тому, – скажем мы в заключение словами Шерра, – каким это образом крестьянин ухитрялся жить, просто в физическом смысле, при всех барщинных работах и поборах, которые ему предстояло исполнять и выплачивать, при всех налогах, начиная с десятины и оброка и кончая лучшею штукой из крупного и мелкого скота, оброчною курицей и оброчным яйцом. Правда и то, что в годину неурожая голод истреблял бедных людей так, как ноябрский мороз губит мух»[46].
III
Ряд фактов показал нам в предыдущей главе, что если чешский народ в эпоху возникновения гусситства и испытывал известное экономическое стеснение, то интенсивность этого стеснения все-таки слишком ничтожна, чтоб объяснить грандиозные размеры движения. Перейдем поэтому к другой причине народных протестов – к политическому гнету. Посмотрим, можно ли этим фактором объяснить бурю народных страстей, перевернувшую вверх дном все здание чешского государственного строя.
Выше были указаны объемы и характер верховной власти в старой Чехии. Чешский князь был по стольку глаза власти, поскольку в такой власти нуждалась страна. Потомки Премысла всегда помнили свое происхождение, всегда помнили, что они сильны только народным выбором, и потому ни о каких «излишествах» власти не могло быть и речи, тем более, что всякий мало-мальски важный вопрос обсуждался всем народом[47].
Но с течением времени, по мере проникновения в Чехию немецкой «культуры», власть королей начинает усиливаться. Короли раздают принадлежащие им земли своим приближенным и немецким колонистам на началах, выработанных феодальною Европой, и на первых порах создают себе этим опору помимо народной массы. Поэтому мы замечаем исчезновение некоторых обычаев, наглядно показывавших тесный союз королевской и народной власти. Так, например, Оттокар I при короновании сына своего Вячеслава (1278 г.) считает возможным обойтись без древне-чешской церемонии[48], состоявшей в том, что избранный князь в простой одежде подходил в каменному, высеченному в скале, престолу и только севши на него облекался в пышный княжеский костюм. С этих пор о старой, полной глубокого смысла, церемонии совершенно забыли.
Чтоб увеличить свое обаяние, королевская власть окружает себя великолепием, о котором чешская старина не имела понятия. Средства для этого великолепия черпаются не столько в увеличении налогов, которые народ выплачивал крайне неохотно, сколько в доходах с богатейших рудников, открытых в Кутной горе. В начале XIV столетия рудники Кутногорские давали ежегодного дохода 100 000 марок серебра (около 20 000 000 гульденов) – сумма для того времени грандиозная. На такие средства не трудно было дивить всю Европу роскошью придворной жизни. И мы действительно видим, что чешские короли не пропускают ни одного случая, чтобы щегольнуть своим богатством. Оттокар II заслужил название самого блестящего государя своего времени. Сын его Вячеслав II устроил по случаю своего коронования такой пир на весь мир, что немецкие летописцы поставили его по великолепию выше пиршеств ассирийских царей[49]. И действительно, роскошь была сказочная. Со всех сторон Европы было приглашено несметное количество гостей. Их съехалось столько, что из королевских запасов отпускалось корму на 191 000 лошадей. Один Альбрехт австрийский приехал со свитою из 7 000 всадников. Всю эту массу народа, а также и пражан, угощали по-царски. На площадях устроили фонтаны, в которых была не вода, а прекрасное вино. Одной только живности было съедено на 800 марок серебра (около 16 000 гульденов). Для почетных гостей были выстроены великолепные палаты, вся внутренность которых была покрыта драгоценными материями и коврами. Коронационный плащ стоил больше 4 000 марок (80 000 гульд.); меч, который несли впереди короля, стоил 3 000 марок; посуда, на которой угощали знатных гостей, стоила 6 000 марок. Но самое удивительное были кольца, ожерелья, пояс и шляпа короля, украшенные такими драгоценностями, что никто не решался определить им цену[50]. В более позднюю эпоху, да и не в Чехии, одной такой картины было бы достаточно, чтобы составить себе ясное понятие о народных тягостях и силе верховной власти. Наприм. в Версали Людовика XIV каждый фонтан бил народными слезами, каждая аллея взращивалась народным потом. Но средневековое государственное хозяйство было устроено иначе. Короли имели регалии, доход с которых избавлял их от необходимости часто обращаться к народу с просьбою денег. В Чехии это общее правило имело особенное применение, благодаря большим природным богатствам страны. Что же касается обаяния роскоши, которое обыкновенно усиливает авторитет власти, облекает ее ореолом чего-то высшего, то блеск чешского двора производил совершенно обратное действие. Появляется целый ряд проповедников, как Конрад Бальдгаузер, Милич Кремзирский, Фома Штатный, которые громят мишурный блеск и взывают к простоте предков. Королевская власть дискредитируется их проповедью, потому что проповедь эта попала на наболевшее место – на приверженность в бесхитростной старине, на любовь в равенству.







