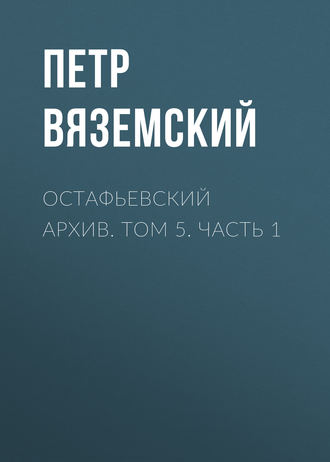
Петр Вяземский
Остафьевский архив. Том 5. Часть 1
44.
Князь П. А. Вяземский своей жене.
[Ревель]. 26 [июля 1825 г.].
Так и есть! Я опять два твои письма получил вместе. Ты меня все пугаешь Петрушею. Показывай его чаще Thomas. Зато спасибо Наденьке, что она так хорошо ходит. Можно ли было ожидать, что она перегонит Петрушу? Ты жалуешься на погоду, на холод и на грозу. Как это согласить вместе? А у нас третий день, как погода прелестная, и я вздыхаю по грозе. Вчера ездили мы на корабль адмирала Кроуна, который с своею эскадрою приставал к Ревелю. Я в первый раз видел военный корабль снаряженный. Что за великолепная махина этот плывущий мир! Я был в восхищении и сердечно жалел, что не посвятил себя морской службе. Вот поэзия в мундире! Военное сухопутное ремесло возвышается в военное время; гражданский мундир не лакейская ливрея в тех только государствах, где царствуют законы и свобода; должность моряка имеет во всякое время много поэзии, то-есть смелости и благородства. Он завсегда имеет перед собою сильных друзей или сильных врагов (лучше бы могущих), небо и море. С ними честному человеку весело ладить и бороться. Моряк посвящен в таинства природы: он с нею в тесной связи. Пыль и грязь природы до него не касаются. Он проникает в её лучшие тайники, в бездонную бездну океана и в сокровенное лоно бурей. К сожалению, эскадра, с которою надеялся я повозиться, получила неожиданно поколение от Государя возвратиться немедленно в Кронштадт. Адмирал Кроун, 70-летний молодец, храбрый, ласковый, добродушный, обласкал нас и показывал нам корабль во всей красоте. Жаль, что они не могли здесь остаться долее: я непременно отправился бы с ними; но со всем тем я все еще не теряю надежды отправиться морем в Петербург. О Свеаборгском путешествии, кажется, думать нечего. Этот проклятый Сумароков тут впутался и прежде трех недель не едет. Тогда, боюсь, будет поздно. Сегодня думаю ехать в Гапсаль, верст около за сто, где тоже есть купания; пробуду там дня два, три или сколько поживется, или покупается. И потому, может быть, следующей почты от меня и не получишь. Может ли быть, чтобы мои письма не доходили до тебя исправно? Регулярно пишу тебе отсюда два раза в поделю и посылаю письма к Булгакову петербургскому. Не задерживаются ли письма в московском доме? Кажется, на почте их задерживать не зачем! Они дышут благочинием и глупы даже не по чину моему. Не только коллежскому, но и тайному советнику не быть выдержнее меня на мысли и на уме! Посылаю тебе первый том Genlis и при нем морской сухарь, взятый с корабля для тебя и с ведома адмирала, который был тому очень доволен и смеялся; впрочем, и первый том Genlis род сухаря; следующие томы немного будут посдобнее. Они теперь ходят здесь по женским рукам. Я если сам не читаю, то по крайней мере просвещаю здешнюю область. Я думаю, оттого и здоров и весел, что ничего не делаю, не пишу, не читаю и не думаю. Может быть, поглупею, но у нас это не беда. Напротив, может быть, еще и вперед пригодится, а особливо же, если запишусь в службу. Слава Богу! сейчас вдали прокатился гром. Увидим, что будет.– 22-го у нас здесь праздновали вдовствующую Государыню. Театр был наполнен, и живые картинки удались, хотя выбор был довольно странен для случая. Представляли барку Харона, зато в концерте пели из Cendrillon: «Те laisses-tu mourir». Одна здешняя барышня играла превосходно на фортепиано. Из театра все отправились в нашу Катеринентальскую дачу и плясали усердно и верноподданно. Я и так познакомился с молодою Пушкиною; она премилая девочка. Она, Дорохова и я живем в большом ладу и составляем также тройственный союз, и прошу верить, также святый и совершенно безгрешный. Здесь еще есть милая бабочка, черная, как арапка, – Жадовская[10], дочь Донауровых. Вот и все мои занятия и вся моя команда. Здешнее ревельское общество совершенно рушилось. Вчера уехала губернаторша, женщина умная и образованная. Много и приезжих разъезжаются: сегодня уехала Кожина и Бороздина с дочерью, красавицею в иголку или в булавку с бриллиантовою головкою. В самом деле, голова прекрасная, но рост крошечный, и негде по ней мысли расходиться ни вдоль, ни поперек: так же мила, как и худа. Опять мое ожидание не сбылось: гроза до нас не дошла и разлилась дождем. Авось, нальется воды в море, которое высохло как Сонцова. Более, нежели когда-нибудь, плаваю ventre à terre. Иногда хожу в городские купания, где воды гораздо более, но скучно ходить туда в зной. Зато в Гапсале накупаюсь до-сыта. Мое путешествие сюда, вероятно, не столько мне, как Михею, пользы принесет. Здешний доктор лечит его, и он употребляет теплые ванны, которые ему много добра делают. Выйдет, что его курс гораздо дороже моего будет стоить. Мне очень жаль Якова; он очень был прилежен и смышлен, если, впрочем, ты говоришь о том, о котором думаю. С поваром Василием делайте, как хотите и как умеете. Сюда приехали Лебцельтерны, но я их еще не видал. Они живут за другим концом города. Видишься ли с Зенеидою и где она, в Москве или в Воронцове? Гамильтона вижу часто и иногда у него обедаю. У него вина не по годам, а по часам растут; нет моложе столетнего: ce sont les Benjamins de la cave. Я не помню, был ли он прежде такой гасконец, как ныне. Во всяком случае жена у него старее вина, но не упоительнее. Умора, что делает она на фортепиано: и точно играет бегло, так что и слушатели рады бежать, а добрый Гамильтон глаза к небу и тает. Вот письмо от князя Василия. Устройте же его дела с Поспеловым и Толстым! Перезаложено ли его имение на 25-ть лет, а если нет, так зачем не перезакладывают? Доверенность его, на мое имя данная, должна быть у Ивана Иванова или Поспелова. Если нужно мне будет подписать доношение или что другое, так пришлите сюда, чтобы не задерживать дела. А дело князя Федора устроено ли князем Павлом Павловичем? Если увидишься с графом Григорием Орловым, скажи ему, что при мне Крылов еще не получал экземпляра басен и потому и благодарить не мог, Слава Богу, еще удар грома! Может быть, гроза меня ждет и не хочет маневрировать без меня. Итак, прости и простите. Обнимаю, цалую и благословляю вас от всей души, не забывай же, что одна почта может придти для тебя с пустыми руками. Будьте здоровы.
Приписка Екатерины Николаевны Карамзиной.
Paul contiuue à sc porter à merveille, chère et bonne tante, et ses joues embellissent tous les jours en devenant plus vermeilles et plus rondes encore, qu'elles ne l'étaient à sou arrivée ièi; je crois, que le beau temps y contribue beaucoup. Nous avons de nouveau l'été avec son brûlant, soleil, son air doux, ses belles soirées, ses belles étoiles, enfin avec tous ses beaux attributs; d'après ce, que vous dit mon oncle, il me semble, que vous êtes moins heureux sous ce rapport à Moscou, et c'est bien à regretter, surtout lorsqu'on a, comme vous, des petits êtres souffrants, pour qui un bon air est ordinairement un remède si efficace. Veuillez, chère et bonne tante, distribuer de tendres baisers à. votre petite famille et, en recevoir deux bien plus tendres encore pour vous-même.
Catherine Karamzin.
Приписка Екатерины Андреевны Карамзиной.
Votre fils veut barbouiller sous ma direction un baiser pour vous et pour ses soeurs et son frère.
45.
Князь П. А. Вяземский своей жене.
[Ревель) 31-го [июля – 1-го августа 1825 г.].
Вчера вечером возвратился я или возвратились мы, потому что со мною ездил Пущин, из Гапсаля и прочих, и прочих мест, куда путеводила нас наша кочующая звезда. Вот тебе журнал путешествия. Мы выехали в субботу в полночь 25-го или, правильнее, 26-го, потому что воскресение было уже на дворе, когда мы тронулись со двора, и таким образом воскресение сменило нас в Ревеле. До утра ехали мы и ничего не видали, разве во сне, да и того не помню; помню только, что за несколько верст от города вылезли мы из коляски, завязнувшей в песках, и прошли с полверсты пешком, там сели и опять заснули. Часов в 8 утра представился нам на дороге замок довольно красивой наружности, а в нашей внутренности представилось желание есть. Спрашивать там, здесь, – везде один ответ: «ei moista», то-есть, «не понимаю»! Наконец, хозяин замка, 70-летний старик, барон Стакельберг завидел нас и, велев расспросить у нас раза но три наши имена, пригласило, к себе и напоил хорошим кофеем. Мыза его – Riesenberg; дом обширен и хорош; построен, омеблирован все собственными людьми и стоит 28 тысяч, а по оценке нашей тысяч около ста. У него жена и много детей, но все в разброде. До Гапсаля не нашли мы ничего примечательного, кроме весьма порядочного обеда в корчме под вывескою: «Астанависа», т. е. «остановися»! и то же самого на немецком и эстонском языках. Примечательно и то, что обед нас двух и двух людей наших стоил рубль. Дешевизна везде черезвычайная, в особенности же за Ревелем, где нравы еще во всей чухонской простоте. Здесь приезжие уже набивают цену. Гапсаль – род Подольского, но Подольского на море. В средине города и перед самыми окнами трактира, или кабака, в котором мы жили, возвышаются и великолепствуют развалины древнего монастыря, епископства укрепленного. Я люблю развалины. Рябина растет и краснеет на обломанных стенах, может быть, на том же самом месте, где толстел и краснел благочестивый монах за стаканом рябиновки или тому подобного, потому что рябиновка российское и новейшее произведение, как о том говорит Шишков в своей Академической речи и Сергей Глинка в 16-й главе своей истории. В Гапсале есть также собрание больных, довольно здоровых: семейств 30-ть, более из Петербурга, но мало коренных русских. Есть галлерея, куда собираются два раза в неделю плясать под дождем, когда Бог велит, чтобы шел дождь, а если нет, то все довольно сухо. Мы тут нашли ревельских наших Мантейфеля и Башуцкого, адъютантов Милорадовича; Мантейфель – умный и милый малый, Башуцкий – урод, для Башуцкой породы. Мы сейчас познакомились со всеми и были Чернышевыми, Кассельскими героями, собрания.
Было несколько миловидных творений. Сиротка Кнорринг, воспитанная старухою Ренненка[м]пфь, – не красавица, а мила, героиня Августа Иафонтена; не любит Ревеля, потому что Ревель слишком большой, блестящий город, и предпочитает ему Гапсаль. – Говоря о развалинах я забыл сказать, что есть еще высокая башня, на которую мы взобрались. Виды с неё обширные, но море в Гапсале не хорошо, перерезано островами. Морское дно черное, зеленоватое, свинцовая глина: ноги, точно как в теплой каше. Этой грязью хорошо тереться, и лице, говорят, от того белеет, а как намажешься, – походишь на железную маску в драме Коцебу. Года, кажется, за три, верх одной стены, не моря, а развалин, обрушился на деревянный домик, из коего псе убежать успели, кроме одной молодой девушки, тут погибнувшей. С её могилы перейдем опять на бал, где укажу тебе на петербургскую девицу Rachette, лица красивого, стройную, живую, не блестящей породы, как сдается, а с Васильевского острова, петербургского Замоскворечья, а я, ты знаешь, и в красавицах враг аристократии. Красавицы под пышным гербом редко мне нравятся: они обыкновенно сухи, жестки, как их родословный пергамент. Тут познакомились мы с одним Кноррингом, у которого на другой день были на мызе версты за три (Weiаsenfekl). У него нашли родственницу его из Ревеля, которую еще я не знаю, Баранову, но не мериносной и не московской породы, а здешней; у лея дочери две, из коих одна совершенная красавица, но довольно ледовитая. Так как в воскресение не весь Гапсаль был на бале, а следующее собрание было назначено в середу, до которой мы не хотели оставаться, решили мы с общего согласия уговорить entrepreneur созвать весь народ на другой день, обещаясь заплатить за освещение, музыку и прохладительные, которые здесь, то-есть в Гапсале, не дороже, да и не вкуснее промывательных. Так и было сделано. Крылатая молва разнеслась повсюду, и вечером было около двухсот человек в зале, и многие из них, а особливо же из женщин, были точно с человеческими лицами. На другой день, покатавшись по морю с некоторыми из дам, которые от нас не отставали и учредили новую прогулку мимо окошек наших (извините! не нарочно промолвился)[11], оставили мы Гапсаль в слезах, т. е. Гапсаль, а не мы в слезах. Для совершенно больных Гапсаль, думаю, лучше Ревеля: вода действительнее, да и жизнь гошпитальнее. Климат также должен быть получше: по крайней мере, хвалят тамошние фрукты, груши, reine-claude. Впрочем, и здесь в растении, то-есть в прозябении, большая разница с нами. В Катеринентальском саду есть каштановые деревья прекрасные, растущие без присмотра и выносящие зимы, не хуже варшавских.
Эпизод.
Боже мой! Что за несчастие не уметь бриться! Сейчас матрос жирною, вонючею, мокрою рукою гулял по лицу моему и точно гулял, потому что руки его воняли потом, которым обыкновенно воняют ноги chez le commun des martyrs. Каково же было мне судить об этом анатомическом феномене! Если бы ты видела, если бы ты чувствовала, как он лапою своею (вот настоящее и обоюдное здесь слово) лобызал мои уста и трепал, как грации, мои ланиты тучны! Нет! лучше не знать грамоте, а уметь себя брить! Только что приеду в Москву, отдам 11аилу ту не в школу, а в цырульню. Справься, где лучшая.
Продолжение рассказа.
Во вторник итак, т. е. итак во вторник, мы выехали не без труда: не то, чтобы мы сердцем привязались к Гапсалю, а то, что лошади не шли с места, потому что фурман напился пьян; несколько добрых подзатыльников, данных ему сторицею, по примеру Дашкова с Шишковым, выбили из него упоение, и мы полетели рысью. Мы поехали но другой дороге. В окрестности Гапсаля мелькали мызы, довольно красивые. Здешния дороги там, где нет песка, чрезвычайно хороши: слой земли каменистый, и везде натуральная шоссе превосходная. Зато пропадешь в песках с лошадьми чухонского происхождения и немецкого воспитания. Поля хорошо обработаны и все обведены оградами, по большей части из каменьев, друг на друга поставленных, вышиною в аршин или в полтора: признак уже некоторой образованности в домоводстве и обдуманности. У нас все делается на Божию волю. Русскому Богу много хлопот за нами; чухонскому менее: люди менее на него надеются и менее плошают. Наружность здешних сел и поселений бедная, грустная, даже отвратительная; но на деле, полагаю, нет большой бедности. Я не мог еще порядочно узнать, какие плоды принесла здесь свобода крестьян, или по крайней мере некоторое их освобождение. Кажется, de fait все или многое осталось по прежнему, и ни господа, ни крестьяне не дали еще себе отчета в новом своем положении. Вообще все-таки мера принятая хороша: главное дело сделано. Рабство, нарост уродливый на теле, срезан: от врачей, от больных, от времени, от обстоятельств зависит последствие. Скоро ли больной встанет на ноги и пойдет, долее ли пролежит и прохворает, – по все уже он облегчен и не умер под ножем оператора. Весь этот переворот, конечно, доселе более на словах, чем на деле существующий, совершился без шума, без бунта. Это тем замечательнее, что не все были разом освобождены, а но ломтям. Может быть, другая, а не чухонская природа, и не выдержала бы этой очереди. Все растущее поколение будет грамотное: не дают причастия детям без экзамена. Вот лучшее орудие, чтобы добыть и упрочить свободу. Всю ночь мы проехали, или простояли в корчме или у корчмы, или пролежали, а утром очутились мы в мызе г-на Рамма Padis-Kloster. По внушениям рыцарских преданий и наущениям голодного желудка, постучались мы у ворот замка. Нас впустили; самих хозяев не было, но был приятель дома и кофе. Тут также развалины древнего монастыря (все это памятники католицизма) и развалины, поруганные чухонским и варварским расчетом. Многие стены обломали и построили из них господский дом; в остальных стенах завели анбары, клева, подвели соломенную крышку, и чухонская экономия ругается прахом столетий, Прерываю рассказ одного путешествия, чтобы предпринять другое, не такое большое. Идем на тех же смертоносных дрогах в Тишерт, Tisskert, верст за 12-ть, лучшее, говорят, место в окрестностях ревельских: крутая, высокая скала на берегу моря, Левкадский прыжок. Увидим! Пока прости; я зайду за тобою в Padis-Kloster, чтобы идти далее. Между тем, спасибо за письмо, которое мне сейчас принесли, от 19-го. Я нее сокрушаюсь о Петруше и надеюсь на Thomas. Сейчас окропил мне ухо Серг[ей] Львов[ич] и проворковал старым и хриплым голубем, что линейка готова, и меня ждут. Вот можно о нем сказать, que ses paroles mut comme la rosée du ciel.
Вечер.
Не ты неисправна, моя милая, а почта. Вот сегодня получаю три письма от тебя: от 19-го, 22-го и 24-го. Слава Богу, что Петруше получше. Сажайте его в соленые ванны. Гапсадьская грязь должна быть бальзамом для детей. Жаль мне, что князья проиграли процесс; но нельзя ли еще поправить? Потолкуй с князем Павлом и снесись с Толстым. Как мне жаль и молодого студента! Как он казался тих и добр. Что за ужасное создание человек! – Варшавская швейцарка найдет скоро место. Пускай пока она живет у нас, если ты решилась взять Конусов. Возвратимся к моим путешествиям. Идти ли по порядку? Нет! перескачем со мною на Тишертскую скалу, с которой я сейчас возвратился. И в самом деле место прекрасное! Скала, зелень и море, вот богатые материалы для картины. Скала версты с две или более: величественная крепость природы! Здесь висит она круто над морем, здесь подается уступами, то голыми, то одетыми деревьями, растущими в различных направлениях. Начало скалы красивой наружности и зеленеет под дерновым бархатом; на первом этаже стоит домик консула, кажется, английского, с развевающим флагом; подалее на площадке желтеет жатва, точно пол золотой в изумрудном храме! Далее скала морщится; тут она улыбалась. Вид её становится дикой, и дикость её величественна. Вечер был прелестный, и захождение солнца восхитительное. На краю горизонта облака пылали, как огненные горы, из волн выходящие. Вдали Ревель был освещен; море было тихо, но прибрежные валы его с невыразимым шумом и с обыкновенною расстановкою ударялись в берег. Французское слово bruissement довольно хорошо выражает и действие и звук. Что за поэтический голос в этих стонах моря: оно как будто сетует, как будто жалуется, что обнимается с землею, как молодая жена, которая, цалуясь с дряхлым мужем, невольно вздыхает и удерживает в груди свои вздохи. Далее от берега, там, где валы дома, они окликаются между собою совсем иначе! Я непременно поеду еще раз в Тигаерт ночевать, провожать и встречать солнце. Теперь возвратимся в Padis-Kloster, откуда я тебя схватил и перебросил с собою через расстояние и время. Но на лету услужу тебе гостинцем. С нами ездил Дубенский, богатый питерский житель и славный своею крепостною музыкою; он жестоко красноречив и говорит так кудряво, что каждое слово его в завитках. Вот и это жестоко воняет припекою щипцов! Как бы то ни было, вот его фраза: «J'ai coulé ièi des jours filés d'or et de soie, comme dit M-me Sévigné». Впрочем, и Кассельский Чернышев говорил однажды: «il а été attrapé flagrant délit, comme disait Napoléon».
Чухонский бич хлопнул, и мы из Padis-Kloster поехали верст за двадцать к Кнорринговым, о коих говорил я тебе в первом письме. Дом его прекрасный и также состроен, омеблирован его людьми и стоит, верно, впятеро менее такого дома у нас. Мыза его (Wichterpal) у моря, и с балкона оно видно так же, как и городок Балтийский Порт, куда также ты со мною съездишь. У них нашел я Клюпфельда с сестрою из Ревеля, и мы очень друг другу удивились. Дом Кнорринга устроен, как нельзя лучше, и даже с отменным щегольством, – не только комнаты, но и все домашнее житье-бытье как для хозяев, так и для гостей. Жена его, как я тебе сказывал, красавица и вместе ключница. Она водила нас но всем чуланам опрятным, где держит молоко, чеснок, яйца, хлеб, холст и прочее, и прочее. И так как в домашнем быту у них нет никакой скупости, а напротив более довольство и изобилие, то ключ ничуть не портит её рук и делается у ней эмблемою порядка, а не скупости. У нас большой недостаток в воспитании девиц, что их не приучают к домоводству. Кноррингова сказывала мне, что хозяйственные занятия отнимают у неё два часа в сутки, и она доказательством служит, что они ничуть не сушат души и не наводят морщин ни на нрав, ни на лице.
Выдав десяток луковиц или часть телятины, она возвращается в свою гостиную и не хуже вас, чисторуких барынь, готова кокетствовать на свой немецкий и лафонтеновский лад. Пускай хоть это примирит вас с немецким хозяйством. Шутки в сторону, я желал бы, чтобы паши княжны побывали в этой школе. Меня это совершенно обворожило. Муж также большой хозяин в большом маштабе, и крестьяне его, сказывают, благополучны. Мы ходили по жатве: жницы все опрятно одеты, и, чтобы им не было скучно работать, чухонский трубадур с волынкою под мышкою, ходит взад и вперед по нолю. Это, кажется, уже лишнее и, как будто, насмешка над потом, орошающим лице бедных работников. Добро еще песни наших крестьян на работе: они поют сами, когда хотят и когда поется, но этот accompagnement obligé мне совсем не нравится. Это песни жрецов при заклании жертвы; веселее ли ей от них? Мы хотели ехать в тот же день, но ласковость и обещание доставить нас на другой день морем в Baltis Port заставили нас остаться ночевать, а коляску отправить в город сухим путем. Усталость также заставляет меня оставить до завтрашнего дня окончание рассказа, а теперь иду спать. Простите, мои милые. Обнимаю и благословляю вас. Под солнцем, на море и на скалах, посреди восторгов и рассеяний возвышенных, воспоминание об вас, как облако, заглядывает в сердце мое. Хорошо, а все чего-то нет, да, впрочем, и во всей жизни все чего-то нет! Купания, кажется, помогают мне и крепит мои нервы, но все не могу совершенно отделаться от каких-то облачков, которые внезапно набегают на меня. Должно однакоже признаться, что эти сердечные затмения редки, не продолжительны и не совершенно мрачны. Вообще я здоров духом и телом. Обнимаю вас.







