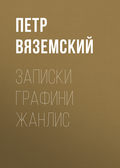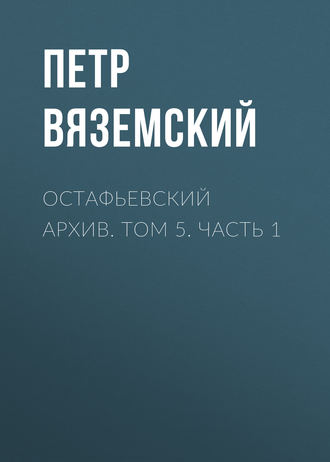
Петр Вяземский
Остафьевский архив. Том 5. Часть 1
49.
Князь П. А. Вяземский своей жене.
[Ревель]. 15 августа [1825 г.].
На дворе холодно, в комнате свежо, в воде очень холодно; становится плохо. Сегодня адмирал Проун звал было всех здешних красавиц к себе на корабль, но ветер слитком силен, и все отказано; разве мы, одни мужчины, поедем. Здесь Шварценберг, которого также всюду подмывает – и в Свеаборг, и с эскадрою в Петербург. Сейчас был у меня Спафарьев и говорит, что пойдет на своей яхте в Свеаборг: это соблазнительно! Пойдет на три дни; но на его слово худо положиться можно: оно зыбко, как море. Во всяком случае не кончаю будущей недели здесь и на какой ни есть стихии, а отправлюсь. Спасибо за письмо из Москвы от 6-го августа. Я рад за тебя приезду Орловой и поездке твоей в Семеновское. А в Петербург будет ли ваше сиятельство? Надеюсь, что будущая почта уже разрешит мое сомнение. И разумеется, не жди моего приезда, чтобы разделаться честным образом с варшавскою швейцаркою. Судя по портрету, она ни на что не годится. Кажется, от купаний должно отказаться. Говорят, что теплые дни еще будут, по меня уже не застанут они здесь. Холодные пощечины волн становятся слишком чувствительны. Это жаль; я желал бы еще схватить десяток купаний, но делать нечего. Я писал вчера князю Василию с Клюпфелем, который отправился сегодня в 3 часа утра в Ригу, а там морем во Францию. Он здесь немного поправился в здоровии своем. Мы здесь с Шварценбергом неразлучны; не знаю, как это сделалось. Кажется, перед отъездом побываю и у Лебцельтерна, который уже раз звал меня обедать, по мне нельзя было обедать у него. Он и они здесь очень ласковы и учтивы со всеми. Бедный Сбедиго! разве нельзя его перевезти в Москву? Я много надеюсь на Орлова для пользы Мамонова. Сегодня письмо мое будет глупо, потому что небо глупо, что я глуп: устал от ночи, – не пугайся! Ночь провели мы за ужином, прощальным для Клюпфеля и угостительным для капитана корабля, который несколько раз нас потчивал на корабле. Шампанское было не забыто, но не путайся! А только я здесь отстал от ночных экспедиций и сегодня я, так разбитая лошадь. Обнимаю и благословляю вас, моих милых, от души. Дай Бог увидеться нам скорее и в радости, Клюпфель тебе очень кланяется. Цалую тебя нежно.
Посылаю 3-ию Genlis.
15-го августа.
На обороте 2-го листа. её Сиятельству Княгине Вере Федоровне Вяземской, в собственном доме, в Москве.
50.
Князь П. А. Вяземский своей жене.
[Ревель. 18-го августа 1825 г.].
(В Остафьево).
Наконец я завербован; завтра в четыре часа утра мы на корабле адмиральском и плывем с ним, куда Бог велит, куда ветр велит, куда адмирал велит. Он не прямо идет в Кронштадт, а будет крейсировать и пойдет к Готланду; надеюсь, что во всяком случае не более десяти дней будем на море. Теперь я бы почти и на понятный двор, потому что захотелось вас брюхом и сердцем увидеть; но любопытству очень льстит эта поездка. Меня корабль усыновил: старик Кроун полюбил меня, и весь экипаж со мною на дусерах (sic), потому что они видят первого русского поэта на корабле. Одно сокрушает меня: то, что еду без писем ваших. Последняя почта мне ничего не принесла, и грустно ехать без свежих вестей от вас, мои остафьевские и царскосельские друзья. Что делать? В этой грусти есть что-то поэтическое! И я с трудом и с сердечным надрывом отстаю от земли.
Awaking with а Start.
The waters heave around me; and on high
The winds lift up their voices: I depart,
Whither I know not!
Вот что я скажу завтра! Это между нами, Софья и Екатерина Николаевны! Но прошу перевести это для жены и для меня к моему приезду. Avez vous lu mon mandement?– Oui, Monseigneur, et vous? – Итак, я завтра на адмиральском судне, прошу не прогневаться! Увидим, каково на нем сидеть; только на этом судне действие бывает противное обыкновенному: тут ходишь не на низ, а на верх, и часто не с низу, а с верху идет. Извините меня, придворные барышни, что это письмо так дурно пахнет, но оно ведь не к одним вам писано, а отправится в остафьевcкую сторону, где эта сторона est en lionne odeur во всем околодке.
Прощайте, мои милые остафьевские и царскосельские. Весь Ревель ждет меня в зале, где дается прощальный бал: музыка гремит, а я в халате пишу к вам. Сегодня уже не ложусь. Прямо с бала отправимся на корабль. С нами едут Шварценберг и Пущин. Надобно еще укладываться, отправить коляску в Петербург.
Дай Бог увидеться нам в радости! В объятия свои включаю всех, а благословляю, кого следует. Если я дал бы валю сердцу, то готов очень разнежиться, но не хочу и оставляю вас! То-то привезу славные стихи с корабля и буду поверять Байрона, как Василий Львович поверял Виргилиеву бурю. Я надеюсь, что на судне пронесет меня хорошими стихами. Жуковский! позавидуй мне! Такая поездка стоит твоего чернослива! Кого-нибудь бы из сердечных при мае, и поездка была бы в тысячу раз приятнее. Боюсь, что придется мне удерживаться на судне. Вот положение! Настоящее Танталово страдание! Тьфу, Боже мой! у меня на языке и на пере так и висит судно! Я совсем провоняю в Ревеле. Теперь, решительно, простите. Обнимаю вас, прижимаю к сердцу, и полно.
18-го.
51.
Князь П. А. Вяземский своей жене.
Петербург. 22-го [августа 1826 г.].
В Петербург не дошло еще письмо мое к тебе из Ревеля, в котором уведомлял я тебя об отправлении своем морем на адмиральском корабле, по крайней мере дней на десять, а я уже здесь. На другой день нашего плавания застегнули нас сильные ветры, которые решили адмирала оставить дальнейшее крейсирование и спуститься к Кронштадту. Я и рад и не рад тому. Первый день на море был для меня очень тяжел; хотя меня и не рвало, но тоска, как свинец, лежала на душе; все было не по мне, и самое море опостылело мне, но на другой день я начинал уже привыкать, а вчера мне было уже грустно расставаться с кораблем. Неизъяснимо также грустно было мне, расставшись у парохода, на коем пришли мы из Кронштадта с Шварценбергом и Пущиным, въезжать одному в эту столичную пустыню Петербурга, где мае некого было видеть и не- кого было искать за отсутствием Тургенева, которого я привык видеть первого в Петербурге. Я однакоже остановился у них на квартире; коляски моей еще нет; она должна была отправиться в тот же день после меня из Ревеля, и удивляюсь, что её еще здесь нет. Я совершенно здесь чужестранцем на диком острове, Первое мое движение было броситься на почту, чтобы узнать, нет ли тебя в Царском Селе или, по крайней мере, нет ли писем от тебя. Письмо нашел твое от 14-го из Семеновского; ты меня поддразниваешь своими веселиями. Веселись с Богом! А приедешь ли сюда? Теперь уже не знаю, на чем решиться и что присоветовать? Я полагал, что мы около одного времени съедемся в Петербурге: это было бы и хорошо! Теперь придется мне ждать тебя? И это можно, но долго ли? Из Царского Сада, куда поеду часа через два, буду тебе писать подробнее о сем. Если сама не приедешь и во всяком случае, если деньги есть, пришли мне тысячи полторы. Я заказал себе в Ревеле платья за дешевизною и кое-что купил, по только не холстины и ничего для тебя, – не прогневайся! Теперь прощай! Хочу побывать у Северина. Обнимаю и благословляю вас от души. Теперь письма мои пойдут опять глупые. Пора хороших писем отцвела: извини меня перед Волконского. Ненавижу Петербург.
Цалую тебя нежно и нежно.
52.
Князь П. А. Вяземский своей жене.
[Царское Соло. 23-го августа 1825 г.].
La porteuse de cette lettre et la rapporteuse de ma vieexistence il Rewal est ma soeur d'adoption Mademoiselle Olga Pouschkin, que je vous recommande. Je vous prie de l'aimer et de lui donner quelque chose.
Постарайся ст. него увидеться, только не очень ее слушай, если она тебе станет сказывать, что я много шалил в Ревеле. Обнимаю.
Царское Село. 23-го.
На обороте 2-го листа. Княгине Вере Вяземской.
53.
Князь П. А. Вяземский своей жене.
[Царское Село. 24-го августа 1825 г.].
Я здесь в Царском Селе; нашел Павлушу румяным и свежим. Ник[олай] Мих[айлович] все не очень здоров. Мне так больно, что он не съездил в Ревель; я уверен, что месяца два в Ревеле, или в другом месте подобном, дали бы ему здоровия на много лет. Прежде 8-го сентября мне быть к вам нельзя, потому что барышни затеяли «Полубарские затеи» для моего высокоторжественного приезда. А ты что же делаешь? Скажись! Погода здесь грустно хороша. Как бы теперь хорошо быть в море, если не быть уже в Остафьеве. Вот тебе мое прощальное письмо из Ревеля, мою лебединую песнь! Теперь я попал в колею глупости и сухой прозы. Государь едет из Петерб[урга] в Таганрог 31-го августа, а Императрица Елисавета дня три после.
Обнимаю и благословляю вас, моих милых. Ольга Пушкина вчера поехала в Москву, отыщи ее с Трубецкими Знаменскими, у которых она верно будет. Я дал ей записочку к тебе. Нежно цалую тебя. Пришли же денег.
24-го.
54.
Князь П. А. Вяземский своей жене.
[Царское Село. 28-го августа 1825 г.].
Каковы девицы княжнушки? С нетерпением жду новых вестей и, надеюсь, хороших. 'Твое последнее письмо из Остафьева – от 22-го. По всему вижу, что тебе нет охоты сюда ехать.
Что же о том и говорить? я звал тебя для тебя. К тому же, вероятно, теперь будем мы в Петербурге будущею весною. Следовательно, лучше отложить поездку; впрочем, делай, как умеешь и как хочешь. А если не будешь, то я все к 17-му приеду. Приехал бы и ранее, потому что мне делать здесь нечего, хочется домой, да и нужно мне будет съездить еще нынешнею осенью в Кострому, да нельзя не дождаться спектакля, который, надеюсь, будет не позднее 10-го. В воскресение думаю ехать в Петербург и увижусь с Кнорринговою, от которой вот записка ко мне. Вот и письмо от к[нязя] Василия и росписка его, доставленная мне Булгаковым. Нельзя ли будет занят для него денег, если Поспелов прежде октября или зимы в приходе иметь не будет?. Нельзя ли сделаться с банкиром, pour qu'il avance une somme de huit a dix mille roubles, с тем, чтобы князь Василий мог бы до зимы убраться в Прованс. Потолкуйте с Толстым, Поспеловым, к[нязем] Павлом Гагариным. Деньги, верно, будут у Поспелова в приходе до нового года; дело только в том, чтобы несколькими месяцами ускорить. Что дело князя Федора с Толстым и Лодомирским? Я сейчас ходил смотреть с Екат[ериною] Андр[еевною] портреты царя и царицы, писанные известным Давом. Как помнится мне, они должны быть схожи. Здесь свадьба: фрейлина Великой Княгини Алекс[андры] Фед[оровны] Ушакова помолвлена законно-гвардейского Барыкова, брата [графи]ни Толстой Тургеневской. У него ничего нет, у неё только несколько лет в барышах против него, но любовь была им свахою, и они счастливы. Я читал у Жуковского письмо Пушкиной: она все очень горюет и на зиму едет во Флоренцию. Сделай милость, если детям будет хуже, и ты будешь о них беспокоиться, не обманывай меня и дай сейчас знать. Я этого непременно от тебя требую. Да и во всяком случае, хоть по словечку, уведомляй меня о их здоровии.
Прости. Обнимаю и благословляю вас от души. Дай Бог нам увидеться в радости. Цалую тебя нежно.
Я и забыл, что я еще должен за книги Жуковс[кому] 500 рублей; следовательно, пришли 2000 на имя Булгакова.
28-го.
Смотри не показывай никому, разве одним Четвертинским, письмо к[нязя] Василия, ради сплетней сто о Голицыне. Скуловой Анетой я очень доволен и в знак благодарности повторяю ей милость, которую оказал ей за ужином у Зенеиды.
55.
Князь П. А. Вяземский своей жене.
[Царское Село. 29-го августа 1825 г.].
Отчего получил я два письма из Остафьева от 22-то августа и одного содержания, то-есть уведомляющие, что дети все кашляют и что ты на другой день едешь в Москву? О приезде твоем сюда писал я тебе вчера и сегодня то же повторяю. Ты не с жадностию приняла мое приглашение; следовательно, тесте и приехать не очень хочется. Теперь же становится поздно! Это затянет нас до октября. Не имея в виду возможности быть нам здесь будущею весною и не предвидя, – когда, я более ценил для тебя выгоду прогулки в Петербург, но теперь, если все будет по добру и по здорову, то мы побываем здесь на будущий год. Впрочем, с моей стороны согласие было дано, и я назад его не беру. Повторяю свое: делай, как умеешь и как хочешь, а я заранее подписываю: быть по сему. Пуще всего: что кашель детей? Не коклюш ли? Боже сохрани! С страхом и нетерпением ожидаю новых вестей. Мой Павлуша здоров и здесь зарумянился. Он каждый раз с слезами на глазах и в голосе говорит о сестрах своих и о желании их увидеть, хотя ему и здесь весело. Фаворитка его – Маша. Дай Бог увидеться им всем в радости я нам долго на них наглядеться. Довольно о деле, поговорим о вздоре. Скажи Пушкиной, что я ее почти разлюбил или, по крайней мере, что любовь моя к ней сильно поколеблена. Л здесь слышал от Воейковых, что она худо говорила о Лизе Дороховой: если это правда, то она крепко провинилась и перед совестью дружбы и передо мною. Я все надеюсь, что это здешния сплетни. Неужели она так бессовестно фальшива и так мало дорожит моим мнением о ней? Отплачиваю ей добром за зло: уведомляю, что вчера Жуковский получил письмо от её брата, гораздо в лучшем духе писанное, чем то, которое она получила. Он соглашается ехать в Псков и, кажется, все будет устроено. Покажи ей мое письмо, но на всякий случай не при родителях, которые, может быть, не знали, что Пушкин отказывается ехать в Псков. Здешния барышни тебя нежно цалуют. они сохнут над рисунками, которые готовят завтрашнему имениннику, Обнимаю и благословляю вас всех, моих милых, от души. Спасибо за описание ваших Семеновских потех, и слышу отсюда твой хохот[15].
29-го.
На обороте 2-ю листа. её Сиятельству княгине Вере Федоровне Вяземской, в собственном доме, в Чернышевском переулке, в Москве.
56.
Князь П. А. Вяземский своей жене.
[Царское Село]. 31-го [августа 1825 г.].
Сохрани, Боже, и подумать ехать теперь осенью с детьми. Коклюш – болезнь шестинедельная; хорошо менять комнат для воздуха, но, признаюсь, не понимаю и страшусь твоих беспрестанных прогулок с больными детьми. Твое вчерашнее письмо меня ужасно встревожило. Я как будто предчуствовал это горе и писал тебе третьего дня о страхе, чтобы этот кашель не был коклюшем. Я не понимаю, как могла ты сериозно предложить мне приехать после двух неделей болезни, которой известный срок шесть недель. Ради Бога, будь с ними осторожна и не доверяй лучшему. Прежде 6 недель болезнь эта все еще пристать может, и если ты в Остафьево переедешь, то все не своди детей вместе. Ради Нога, давай мне знать в точности о здоровии детей и не скрывай худого, если по несчастию будет. Я тотчас пущусь в путь. Теперь мне совестно оставить Карамзиных с приготовлениями спектакля, тем более, что ты пишешь, что болезнь прошла, хотя я мало тому верю. Ради Нога, говори правду, всю правду. У Машеньки грудь и так слаба, кашель и пуще истомит. Как можно более береги их: теперь, в осеннюю пору, воздухом добра не много сделаешь. Признаюсь также, что твое вчерашнее письмо и в другом отношении не но мне: связь твоя с Нащокиными сидит у меня на шее. Мне нельзя будет ее поддерживать, особливо же с старшим, который не может быть терпим. Ты всегда что-нибудь да состряпаешь. Да теперь не о том дело: дай Бог мне получить от тебя хороших вестей, вот главное, а прочее как-нибудь вынесем. Вот письмо от Фовицкого! Весело пошли эти тысячи рублей. Да если она примется куда-нибудь в дом, нельзя ли будет выручить их?
Я со вчерашнего вечера в городе у Северина и вчера: ке был на бале у Муравьевой на Каменном острове, где был весь блестящий Петербург и где мне было тяжело и скучно. Все говорят, что Катенька Карамзина – фрейлина, но верного ничего еще не знаю. Сейчас оденусь и пойду к Кнорринговой, Я так и дрожу, что ты уже в дороге! И ты и Скюдери с ума сошли. Дай Бог, чтобы это письмо застало тебя на месте и спокойною о детях. Сердечно пожалел и я о Сбедиго, и об Елене Васильевне. La vie же dégarnit furieusement. Мне, страх, грустно и холодно на душе.
Сейчас был я у Кнорринговой, в которой не нашел никакой перемены. Детям её лучше; они, кажется, очень милы и образованы для их лет. Девочка, ровесница Наденьки, очень порядочно говорит по-французски, по-русски, и 'по-немецки, и по-польски. Она ожидает мужа к 5-му числу и думает ехать отсюда около 12-го опять через Ревель. Булгаков сказывал мне, что о фрейлинстве Катеньки говорил ему к[нязь] Алекс[андр] Никол[аевич] Голицын. Кажется, должно быть правда. Ради Бога о наших фрейлинах дай мне поскорее хорошую весточку и во всяком случае береги их, как бы болезнь еще и не проходила. Не забывай, что осень на дворе, что сегодня тепло, а завтра – хоть шубу надевай. Как можно было подумать пуститься с ними в дорогу! Это мне в голову не входит.
Обнимаю и благословляю вас, всех православных, а особливо же вас – Машеньку и Пашеньку. Я вчера поплакал об вас, и теперь все сердце еще не на месте.