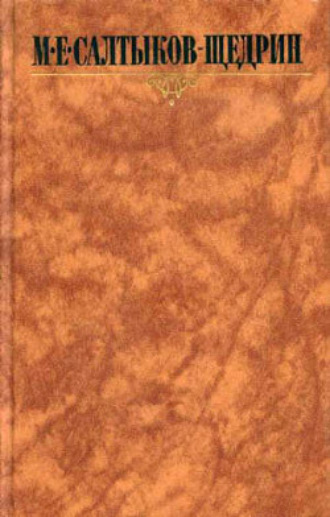
Михаил Салтыков-Щедрин
Губернские очерки
Однако сижу я однажды, в воскресный день, у окна; смотрю, идет она по двору, остановилась, маленько будто раздумалась, да потом и подошла прямо ко мне.
– А что, – говорит, – Алексей Васильич, нет ли у вас хорошего человека на примете?
– Нет; а зачем вам?
– Да так…
– Бога вы не боитесь, Авдотья Петровна! – говорю я, – неужто уж бедность-то в вас и християнство погубила?
– Хорошо вам, Алексей Васильич, так-ту говорить! Известно, вы без горя живете, а мне, пожалуй, и задавиться – так в ту же пору; сами, чай, знаете, каково мое житье! Намеднись вон работала-работала на городничиху, целую неделю рук не покладывала, а пришла нонче за расчетом, так "как ты смеешь меня тревожить, мерзавка ты этакая! ты, мол, разве не знаешь, что я всему городу начальница!". Ну, и ушла я с тем… а чем завтра робят-то накормлю?
– Воля ваша, Авдотья Петровна, – говорю я, – а в намеренье вашем я вам не помощник.
На том мы с ней и разошлись. Однако после этого разговора девка у меня вот тут засела. Больно стало мне ее жалко. "Вот, думаю, мы жалуемся на свою участь горькую, а каково ей-то, сироте бесприютной, одной, в слабости женской, себя наблюдать, да и семью призирать!" И стал я, с этой самой поры, все об ней об одной раздумывать, как бы то есть душу невинную от греха избавить. Жениться мне на ней самому? – нечем жить будет; а между тем и такой еще расчет в голове держу, что вот у меня пять рублей в месяц есть, да она рубля с три выработает, а может, и все пять найдутся – жить-то и можно. Конечно, семья у ней больно уж велика, ну, да бог не без милости: может, и рассуем куда-нибудь мальчиков.
Надумался я таким манером, и как увидел однажды, что идет она по двору:
– А что, – говорю, – Авдотья Петровна, за меня замуж пойдете?
Так она, ваше высокоблагородие, даже в слезы ударилась и сказать-то ничего не могла…….
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пошел я на другой день к начальнику, изложил ему все дело; ну, он хошь и Живоглот прозывается (Живоглот и есть), а моему делу не препятствовал. «С богом, говорит, крапивное семя размножать – это, значит, отечеству украшение делать». Устроил даже подписку на бедность, и накидали нам в ту пору двугривенными рублей около двадцати. «Да ты, говорит, смотри, на свадьбу весь суд позови».
Ну, и точно, сыграли мы свадьбу как следует. Прекословить начальнику я не осмелился; всех приказных позвал, даже сам приехал. Только по этому случаю и угощенье нужно было такое сделать, чтоб не стыдно гостям было, – и вышло, ваше высокоблагородие, так, что не только из двадцати-то рублей ничего нам не осталось, а и сам еще я сделался рублей с пяток одолженным.
Стали мы жить все сообща, и нече сказать, на Дуню пожаловаться грех было. Бабеночка она оказалась смирная, работящая, хоть куда. Одни бы мы без нужды прожили, да вот семья-то ее больно нас одолевала, да и родитель Петр Петрович тоже много беспокойствия делал. Ну, и то опять: покуда жена с хозяйством возится, прибирает, обмывает да стряпает, – работать-то и некогда. Вместо пяти-то рублей, выходит, что и трех словно мы не насчитали, и дошло у нас до того, что есть нечего стало. Это, ваше высокоблагородие, даже не всякому понять возможно, как это ничего-таки есть в доме нет, а между тем это истинная правда. И дошли мы до этой истинной правды очень скоро: не дальше как за другую половину месяца перевалились. Другой подумает, что мы сами этому делу причинны, что вот, дескать, крапивное семя, на первых порах пожуировать захотел, обленился, обабился – так и того не было! Просто само собой так подошло. Пытал я раздумывать, каким бы манером делу этому пособить, однако ничего не выдумал. Вы, сударь, извольте это понять, как оно прискорбно в такое положение попасть через три недели после женитьбы. Тут бы, кажется, и пожить-то в спокойствии, а у нас хлеба нет.
Однажды иду я из присутствия и думаю про себя: "Господи! не сгубил я ничьей души, не вор я, не сквернослов, служу, кажется, свое дело исполняю – и вот одолжаюсь помереть с голода". Иду я это, и река тут близко: кажется, махнуть только, и обедать не нужно будет никогда, да вот силы никакой нету; надежда не надежда, а просто, как бы сказать, боюсь, да и все тут, а чего боюсь – и сам не понимаю. Шел я и мимо кабака – там тятенька Петр Петрович присутствует; увидел меня в окошко и манит. Я было призадумался, да потом вижу, что ждать-то, видно, нечего, перекрестился и пошел. Тятенька просьбу или акт там какой-то сочиняли; нужно было им свидетеля – ну, и попал я во свидетели за четвертак. Это бы еще ничего, пожалуй, да вот что не хорошо: получивши четвертак, я на гривенник выпил и тятеньку угостил. Только с непривычки, что ли, у меня словно все кости с первого же шкалика перешибло, и пошел я домой ровно сам не свой.
Вино, ваше высокоблагородие, тем не хорошо, что раз его выпьешь, так и в другой раз беспременно выпить надо, а остановиться никак невозможно, потому что оно словно кругом тебя окружит.
Кутил я таким родом с месяц – больше; только и трезв был, покуда утром на службе сидишь. Жена, известно, убиваться стала; пошли тут покоры да попреки.
В это самое время производилось у нас в суде дело. То есть дело это и бог знает когда началось, потому что оно, коли так рассудить, и не дело совсем, а просто надзор полицейский. Надзор этот такая, сударь, вещь, что насчет его, можно сказать, все полицейские десятки годов продовольствуются. Жил в нашем уезде мужик, и промышлял он, ваше высокоблагородие, «учительским» ремеслом, или, попросту сказать, старыми книгами торговал и был у прочих крестьян заместо как отца духовного. Мужик он был богатый, и уличить его, следовательно, никаким образом было нельзя, потому что ответ у него завсегда был на ассигнациях. Исправник наш был с ним первейший друг и приятель; ходили даже слухи, что и в торговле мужика часть живоглотовского капитала имеется.
Сижу я однажды в суде, занимаюсь; только подходит ко мне наш столоначальник Коревиков и отзывает меня в сторону.
– Хочешь, – говорит, – хороший куш получить? Ну, конечно, хорошего куша для-че не получить!
– Ну, так, – говорит, – слушай. Знаешь Селифонта Гаврилова?
– Как не знать!
– Следственно, знаешь ты и то, что он под надзором находится, и хоша ему все с рук сходит, однако он ежечасно пребывает в надежде, что возьмут его в тюрьму. Вот и удумали мы с Иваном Кирилычем (тоже столоначальник был), чтобы его, то есть, постращать… Только нам вдвоем это дело соорудить невозможно: первое, потому что он нас обоих довольно знает; а второе, потому что тут Иван Демьянычевым (Живоглотовым) именем действовать нельзя – не поверит – а надо ли, нет ли действовать, так уж от имени губернского начальства…
– А я-то при чем тут буду?
– А вот слушай. Удумали мы это таким манером, что тебя в уезде никто не знает, ну, и быть тебе, стало быть, заместо губернского чиновника… Мы и указ такой напишем, чтоб ему, то есть, предъявить. А чтоб ему сумненья насчет тебя не было, так и солдата такого приговорили, который будет при тебе вместо рассыльного… Только ты смотри, не обмани нас! это дело на чести делай: что даст – всё чтобы поровну!
И точно; меня же заставили написать и указ, и дали мне его в руки. А в указе только и изображено было: "Слушали: Рапорт черноборского земского исправника Маремьянкина от 12 ноября 18.. года, за № 6713, и справку. Приказали: Велеть ему, Маремьянкину, для дальнейших действий, ожидать чиновника особых поручений Сабуневича, а вам, господину Сабуневичу, предписать, немедленно прибыв в село Березино, что на Новом (Черноборского уезда), и изловив там оного совратителя Селифонта Гаврилова Щелкоперова, произвести о всех означенных обстоятельствах наистрожайшее следствие, подвергнув, буде встретится надобность, самого Щелкоперова тюремному заключению".
Под вечер пришел ко мне тот самый солдат, которого они рекомендовали, и лошадей тройку привел.
– А что, – говорю я, – служба! как бы не прорваться нам на эвтом деле!
– Ничего, – говорит, – ваше благородие! и не в таких переделах бывали. Только вы посмелее наступайте.
Приехали мы в село поздно, когда там уж и спать полегли. Остановились, как следует, у овинов, чтоб по деревне слуху не было, и вышли из саней. Подходим к дому щелкоперовскому, а там и огня нигде нет; начали стучаться, так насилу голос из избы подали.
– Кто там? – кричит из окна работница.
– Отворяй калитку, – говорит солдат, – видишь, губернаторский чиновник за хозяином приехал.
Засветили в доме огня, и вижу я с улицы-то, как они по горницам забегали: известно, прибрать что ни на есть надо. Хозяин же был на этот счет уже нашустрен и знал, за какой причиной в ночную пору чиновник наехал. Морили они нас на морозе с четверть часа; наконец вышел к нам сам хозяин.
– Добро пожаловать, – говорит, – гости дорогие! добро пожаловать; давненько-таки нас посещать не изволили.
И сам, знаете, смеется, точно и взаправду ему смешно, а я уж вижу, что так бы, кажется, и перегрыз он горло, если б только власть его была. Да мне, впрочем, что! пожалуй, внутре-то у себя хоть как хочешь кипятись! Потому что там хочь и мыши у тебя на сердце скребут, а по наружности-то всё свою музыку пой!
– Ты Щелкоперов? – спрашиваю я, как мы вошли в горницу.
– Я, – говорит, – Щелкоперов. Да вы, верно, ваше благородие, в первый раз наши места осчастливили, что меня не признаете?
– Да, – говорю, – в первый раз; я, мол, губернский!
– Так-с; а не позволите ли поспрашать вашу милость, за каким, то есть, предметом в нашу сторону изволили пожаловать?
– А вот вели поначалу водки да закусить подать, а потом и будем толковать.
Выпил я и закусил. Хозяин, вижу, ходит весь нахмуренный, и уж больно ему, должно быть, невтерпеж приходится, потому что только и дела делает, что из горницы выходит и опять в горницу придет.
– А не до нас ли, – говорит, – ваше благородие, касательство иметь изволите?
– А что?
– Да так-с; если уж до нас, так нечем вам понапрасну себя беспокоить, не будет ли такая ваша милость, лучше зараз объявить, какое ваше на этот счет желание…
– Да желание мое будет большое, потому что и касательство у меня не малое.
– А как, например-с?
– Да хоша бы тебя в острог посадить.
Он смешался, даже помертвел весь и словно осина затрясся.
– Да, – говорит, – это точно касательство не малое… И документы, чай, у вашего благородия насчет этого есть?.. Вы меня, старика, не обессудьте, что я в эвтом деле сумнение имею: дело-то оно такое, что к нам словно очень уж близко подходит, да и Иван Демьяныч ничего нас о такой напасти не предуведомляли…
Я подал ему бумагу; он раза с три прочел ее.
– Больно уж мудрено что-то нонче пишут, – сказал он, кладя бумагу на стол, – слушали – ровно ничего не слушали, а приказали – ровно с колокольни слетели. Что ж это, ваше благородие, с нами такое будет?
– А вот поговорим, как бог по душе положит.
– Да об чем же ты следствие-то производить будешь? Ведь тут ничего не сказано.
– Это уж мое дело, – говорю к, – ты только сказывай, согласен ли ты в острог идти?
– Что ж, видно, уж господу богу так угодно; откупаться мне, воля ваша, нечем; почему как и денег брать откуда не знаем. Эта штука, надзор, самая хитрая – это точно! Платишь этта платишь – ин и впрямь от своих делов отставать приходится. А ты, ваше благородие, много ли получить желаешь?
– Да сот с пяток больше получить следует. Он почесался.
– Ну, уж штука! – говорит, – платим, кажется, и Ивану Демьянычу, платим и в стан; нет даже той собаки, которой бы платить не приходилось, – ну, и мало!
Говорит он это, а сам опять на бумагу смотрит, словно расстаться ему с нею жаль.
– Да что, – говорит, – разве у вас нонче другой советник, что надпись словно тут другая?
– Нет, – говорю, – советник тот же, да это указ-от не подлинный, а копия…
Только сказал я это, должно быть, неестественно, потому что он вдруг сомневаться начал.
– Как, – говорит, – копия! тут вот и скрепы все налицо, а нигде копии не значится.
Да и смотрит сам мне в глаза, а я сижу – чего уж! ни жив ни мертв.
– А ведь ты мошенник! – говорит.
Пал я тут на колени, просил простить: сказывал и про участь свою горькую; однако нет. Взяли они меня и с солдатом, да на тех же лошадях и отправили к Ивану Демьянычу".
ДОРОГА
(Вместо эпилога)
Я еду. Лошади быстро несутся по первому снегу; колокольчик почти не звенит, а словно жужжит от быстроты движения; сплошное облако серебристой пыли подымается от взбрасываемого лошадиными копытами снега, закрывая собою и сани, и пассажиров, и самых лошадей… Красивая картина! Да, это точно, что картина красива, однако не для путника, который имеет несчастие в ней фигюрировать. Эта снежная пыль, которая со стороны кажется серебристым облаком, влечет за собою большие неудобства. Во-первых, она слепит и режет путнику глаза; во-вторых, совершенно лишает его удовольствия открыть рот, что для многих составляет существенную потребность; в-третьих, вообще содержит человека в каком-то насильственном заключении, не дозволяя ему ни распахнуться, ни высморкать нос… Господи! да скоро ли же станция?
Еду я и думаю, что на этой станции у смотрителя жена, должно быть, хорошенькая. Почему я это думаю – не могу объяснить и сам, но что он женат и что жена у него хорошенькая, это так для меня несомненно, как будто бы я видел ее где-то своими глазами. А смотритель непременно должен быть почтенный старик, у которого жена не столько жена, сколько род дочери, взятой для украшения его одинокого существования…
– Гриша! ром у нас взят с собою? – восклицаю я, обуреваемый какою-то канальскою идеей.
– А когда же мы без рому ездим? – отвечает Гриша, огрызаясь от холода.
– И чай есть? – спрашиваю я Гришу не без тайного намерения побесить его; но он только жмется на облучке и не считает даже за нужное отвечать.
Между тем спускаются на землю сумерки, и сверху начинает падать снег. Снег этот тает на моем лице и образует водные потоки, которые самым неприятным образом ползут мне за галстук. Сверх того, с некоторого времени начинаются ухабы, которые окончательно расстраивают мой дорожный туалет.
– Стой! – кричу я ямщику и привстаю в санях, чтобы покрепче запахнуться, – отчего тут столько ухабов пошло?
– Да вот черти с хлебом в Богородско тянутся – всю дорогу с первопута исковеркали! – отвечает ямщик и, злобно грозя кнутом тянущемуся мимо нас обозу, прибавляет: – Счастлив ваш бог, шельмы вы экие, что барин остановиться велел: насыпал бы я вам в шею горячих!
Но я уже закутался; колокольчик опять звенит, лошади опять мчатся, кидая ногами целые глыбы снега… Господи! да скоро ли же станция?
"Отчего же, однако, он назвал их шельмами, – думаю я, – и чем они провинились перед ним, что хлеб в Богородское везут?" Вопрос этот сильно меня интересует, и я вообще нахожу, что ямщик поступил крайне неосновательно, обругав мужиков. "Почему же он обругал их? – спрашиваю я себя, – может быть, думает, что вот он в ямщики от начальства пожалован, так уж, стало быть, в некотором смысле чиновник, а если чиновник, то высший организм, а если высший организм, то имеет полное право отводить рукою все, что ему попадается на дороге: "Ступай, дескать, mon cher, ты в канаву; ты разве не видишь, mon cher, что тут в некотором смысле элефант едет". И так все это тихо, вежливым манером… Но скажите, однако ж, на милость, отчего мужик, простейший мужик, так легко претворяется в чиновника? Оттого ли, что чиновнику веселее жить на свете? Или оттого, что прежде сотворен был чиновник, а потом уже человек, и по этой причине самый инстинкт или, лучше сказать, естество заставляет человека тяготеть в чиновника?"
"That is the question!"[182] – сказал Гамлет, а Гамлет был отличный человек и не поладил с людьми потому только, что был слишком страстный сторонник правды… вот хоть бы как Перегоренский.[183] Хороший был человек Гамлет, а заколол же его Лаэрт! Так и тебя заколют, друг Перегоренский, и кто же заколет! тот самый злодей, которого ты называл рабом лукавым и прелюбодейным в просьбе, адресованной на имя его превосходительства, господина начальника губернии.
И опять-таки ведь это точно нельзя! нельзя, мой любезный, нельзя употреблять такие выражения! Скажи ты это помягче, выразись, так сказать, боком, ну, тогда дело другое! а то – злодей блудодейный! нельзя, братец, этого, нельзя!
И я сам чувствую, что лицо у меня принимает напряженно-убеждающее выражение, и даже руки расходятся врозь. И внезапно в уме моем проносится просьба, и так отчетливо, так ясно проносится!..
"Сего числа, в десятом часу вечера, – пишет некий истязуемый субъект, – пришед в занимаемую мною в городе Черноборске квартиру, крестьянин села Лекминского Иван Савельев Бунчуков, и будучи он мне одолженным двадцать рублей серебром, стали мы разговаривать о разных предметах, как приличествует в мирном и образованном обществе, без всякой азартности и шума. Посреди сего занятия ворвался в мою квартиру с шумом и азартностью городничий Желваков, и мня себя быть в непристойном месте (почему он сие возмнил – неизвестно), вскричал: "А что вы тут делаете…..?[184] На что я с умеренностью и улыбкой отвечал: «Занимаемся беседою, как прилично кротким гражданам». Но господин Желваков, не вняв словам моим, вновь повторил…..[185] и обозвал меня при этом ябедником, давая тем чувствовать, якобы я для Ивана Савельева ябеду сочиняю. «А хоша бы и точно я писал жалобу для Ивана Савельева?» – возразил я, не теряя присутствия духа, но с прежнею кротостью. Тогда господин Желваков, расстегнув на себе, дабы не стесняться в движениях, мундир, начал Ивана Савельева бить из своих рук, окровенив при этом ему все лицо, и, исполнив сию прихоть, сказал мне: «А до тебя я доберусь еще….. ты…»[186] и уехал на именинный бал к стряпчему. А дабы не претерпевать мне и на будущее время подобных со стороны господина городничего наездов, оскорбляющих честь гражданина… Ваше превосходительство! воззрите на стоны несчастного отца, глаза которого полны слез от нанесенного господином Желваковым оскорбления (и сам не вижу, что пишу), и оправдайте сим репутацию благодетельного гения, которую весь обширный Крутогорский край с превеликим удовольствием вам преподносит".
– Отчего же, братец, ты не пишешь вот таким образом? – говорю я Перегоренскому, – у тебя, братец, печень болит – вот что! а ты лечись, mon cher, лечись!
– Сторонись! – кричит навстречу пьяный голос. – Сам сторонись! – отвечает мой ямщик, – не видишь, пошта едет!
– Сторонись! – повторяет тот же голос, как-то взвизгивая, – сторонись! убью!
– Что такое? что такое? – спрашиваю я, очнувшись.
– Да вот писарь волостной едет, ваше благородие, да ишь, шельма, как ревет с пьяных-то глаз!
– Что ж ты не сторонишься? – кричу я ямщику встречной повозки.
– А как тут сторониться будешь? вишь, писарь пьяный за руки держит!
Вышел я из повозки и вижу: точно, человек стоит на коленках в повозке и держит ямщика за руки.
– Что же ты это делаешь, пьяница? – спрашиваю я, подходя к повозке.
– Еду-еду не свищу, а наеду не спущу! – отвечает писарь сиплым от перепоя голосом, – сторронись!
– Послушай, Иван Гарасимыч, – вступается мой ямщик, – чиновник ведь едет!.. не хорошо, Иван Гарасимыч! ты над своими куражься, любезный друг, а чиновник, хошь как хошь, все он тебе чиновник…
– Чиновник! а что мне чиновник! я здесь главный! я здесь что хочу… Сторронись!
– Сторонись! – говорю и я своему ямщику скрепя сердце.
– Ах, вы! – восклицает невольно Гриша, взглядывая на меня с каким-то сожалением.
И я действительно сконфужен; я чувствую себя совершенно уничтоженным, и, между тем как в ушах моих снова начинает раздаваться скрип полозьев, мне все мерещится: что подумает ямщик? и как это народ такую волю взял?
И вот опять передо мною дорога – дорога с ее березовыми аллеями, с ее раскинутыми по сторонам равнинами, бог весть куда тянущимися. Как приятно смотрят эти аллеи летом, как роскошно цветут и зеленеют за ними равнины! А теперь сучья на березах поникли и оцепенели; ни ветер, ни стаи тетеревов, с шумом опускающиеся на них, не в состоянии разбудить их. Равнины тоже не дышат; где-где всколышется круговым ветром покрывающий их белый саван, и кажется утомленному путнику, что вот-вот встанет мертвец из-под савана… Грустно.
А грустно потому, что кругом все так тихо, так мертво, что невольно и самому припадает какое-то страстное желание умереть…
Я оставляю Крутогорск окончательно: предо мною растворяются двери новой жизни, той полной жизни, о которой я мечтал, к которой устремлялся всеми силами души своей… И между тем внутри меня совершается странное явление! Я слышу, я чувствую, что какое-то неизъяснимое, тайное горе сосет мое сердце; я чувствую это и припадаю головой к кибитке, а слезы, невольные слезы, так и бегут, так и льются из глаз. Неизвестно почему, неизвестно откуда, в ушах моих раздаются звуки анданте пасторальной сонаты Бетховена. Я огорчен, я подавлен и уничтожен, я положительно не знаю, куда деваться от снедающей меня тоски… Все темные горести, все утраченные надежды, все душевные недуги, все, что так болезненно назревало в моем сердце, все это мгновенно встает передо мною… Мне кажется, что меня тяжело оскорбили, что внезапно погибло все, что я любил, чем был счастлив, что я неожиданно очутился один, совершенно один, отторгнутый от всего живого… "Ужели я в Крутогорске оставил часть самого себя?" – спрашиваю я себя мысленно. Но текущие по щекам слезы, но вырывающиеся из груди вздохи красноречивее слов отвечают на этот вопрос! Да! не мог же я жить даром столько лет, не мог же не оставить после себя никакого следа! Потому что и бессознательная былинка и та не живет даром, и та своею жизнью, хоть незаметно, но непременно воздействует на окружающую природу… ужели же я ниже, ничтожнее этой былинки?
Или, быть может, в слезах этих высказывается сожаление о напрасно прожитых лучших годах моей жизни? Быть может, ржавчина привычки до того пронизала мое сердце, что я боюсь, я трушу перемены жизни, которая предстоит мне? И в самом деле, что ждет меня впереди? новые борьбы, новые хлопоты, новые искательства! а я так устал уж, так разбит жизнью, как разбита почтовая лошадь ежечасною ездою по каменистой твердой дороге!
И не то чтоб я в самом деле много жил, много изведал, много выстрадал… нет, я чувствую, что в этом отношении я еще свеж и непорочен, как девственница, и между тем сознаю, что душа моя действительно огрубела, а в сердце царствует преступная вялость. "Ужели же я погибну, не живши?" – спрашиваю я себя, и вдруг чувствую нестерпимый прилив крови в жилах. Мне хочется бежать-бежать, кричать-кричать-кричать… Но вместе с тем я, как выздоравливающий больной, ощущаю, что мне сильный моцион еще не по силам, что одно желание моциона порождает уже расслабление и усталость во всех моих членах. Почему же я устал, однако ж?
– Оттого, вероятно, что не было давно практики, – отвечает какой-то недоброжелательный голос.
Но от недостатка ли практики, или от другой какой причины, только я чувствую, что веки мои отяжелевают от сна, что видимый мир покрывается для меня дымкою.
Какая-то странная, бесконечная процессия открывается передо мною, и дикая, нестройная музыка поражает мои уши. Я вглядываюсь пристальнее в лица, участвующие в процессии… ба! да, кажется, я имел удовольствие где-то видеть их, где-то жить с ними! кажется, всё это примадонны и солисты крутогорские!
И точно, впереди всех выступает князь Лев Михайлыч, под руку с княжной Анной Львовной, но как одряхлели, как постарели они! У князя на лице та же приятная улыбка, с которою он истолковывал княжне тайные пружины бюрократического устройства, но на ней лежит уже какой-то грустный оттенок. "Les temps sont bien changés!"[187] – говорит он, поникая головой. Очевидно, что, говоря это, князь думает о каких-то новых требованиях, перед которыми ощущает себя несостоятельным. За ним спешит, семеня ногами, Порфирий Петрович, тоже с лицом, озабоченным горьким сомнением насчет прочности безгрешных доходов, которых он с такою натугой добивался. За ними следуют: Фейер, с своей Каролинхен, Иван Петрович, под руку с заседателем Томилкиным, Ижбурдин, Крестовоздвиженский, Пересечкин, Бобров, Гирбасов, Живновский, и вся эта компания странников моря житейского, с которою читатель познакомился на страницах настоящих очерков… Позади всех бредет в одиночестве бедная Аринушка, безустанно помахивая клюкою… Бедная Аринушка! отдохнули ли твои ноженьки? Дошла ли ты до Иерусалима горнего, пролила ли печаль у светлого престола Спасова?
На всех лицах написана забота и испуг; все чего-то ждут, чего-то трепещут.
– Порфирий Петрович! куда же вы так поспешаете? – спрашиваю я.
Но он только машет рукою, как бы давая мне знать: "До тебя ли мне теперь! видишь, какая беда над нами стряслась!" – и продолжает свой путь.
"Что это значит?" – спрашиваю я себя.
– Неужели вы ничего не слыхали? – говорит мне мой добрый приятель Буеракин, внезапно отделяясь от толпы, – а еще считаетесь образцовым чиновником!
– Нет, я не слыхал, не знаю…
– Разве вы не видите, разве не понимаете, что перед глазами вашими проходит похоронная процессия?
– Но кого же хоронят? Кого же хоронят? – спрашиваю я, томимый каким-то тоскливым предчувствием.
– "Прошлые времена" хоронят! – отвечает Буеракин торжественно, но в голосе его слышится та же болезненная, праздная ирония, которая и прежде так неприятно действовала на мои нервы…







